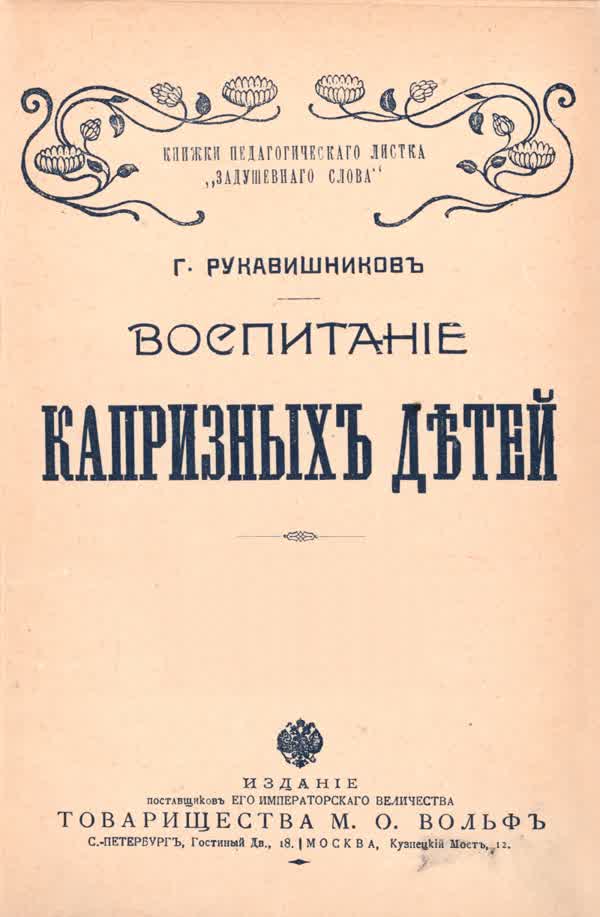
Воспитание капризных детей.
Было время, когда воспитанию придавали единственное и исключительное значение, объясняя из него все различие в характере, все степени умственного совершенства людей. Воспитание, по выражению Гельвеция, это — сила, «toute puissante», которая управляет всецело страстями, укрепляет их или ослабляет и уничтожает.
Но после многочисленных наблюдений, касающихся наследственности, возникла наклонность к принятию почти противоположного мнения, а именно, — что судьба человека заключается уже в его зародыше и что родятся безумными или неуравновешенными, как родятся с задатками редкой даровитости и здоровья.
Обе эти крайности достаточно примиряются во взгляде на природу человека, как на некоторый Фазис, вообще, животной жизни.
Маудсли1 в таких словах определяет формировку детской души. «Дети — по необходимости эгоисты, так как инстинкт их существования состоит в усвоении впечатлений извне, отчего зависит самое развитие: ребенок, как говорят, есть царь, потому что все должны сообразоваться с ним, а он не сообразуется ни с кем. По инстинкту усвоения ребенок уподобляет все, что приятно ему, а по инстинкту отталкивания отбрасывает все, что неприятно, старается избежать его или разрушить. Дитя отталкивает даже грудь матери, если почему-либо молоко ее неприятно ему; криком и различными движениями он пытается избавить себя от действующего на него болезненного впечатления». Подобно животным, дети живут настоящим, минутою; счастие и несчастие их зависят от впечатлений, производимых на органы чувств; их действия — прямые реакции к впечатлениям; идеи и ощущения не остаются в сознании и не вызывают других идей и ощущений, а прямо проявляются наружными действиями.
В длинном ряду таких «своенравных» явлений детской жизни мы встречаем и так называемые капризы, т.-е. — как определяет их Н. Карцев- проявление недовольства, легко переходящего от одного мелкого факта к другому и, вызванного не этими фактами, а посторонней причиной.
Выше замечено, что недовольство и раздражение у детей во многих случаях естественны и неизбежны. Так что если, напр., ребенок забавляется какою-нибудь вещью и вдруг расплачется и рассердится, когда отберут ее у него, то это вовсе не каприз: возвратите ему отнятое — и он опять станет весел. Склонность детей к упрямству, выражающемуся в упорном нежелании исполнять приказания воспитателей, также не может быть отнесена к капризам. Своеволие и дерзость детей нередко вызываются самим воспитателем, который без всякого повода противодействует их естественным и невинным наклонностям. Капризность отличается от упрямства, именно, быстротой перехода недовольства с одного предмета на другой. Такая, по-видимому, беспричинная раздражительность и составляет главную черту капризов.
У здоровых детей капризы легко предупредить, так как опытный воспитатель всегда догадается по тону голоса, по мимике и жестам ребенка, — что беспокоит или раздражает его. Напр., малые дети, которые еще не могут сознательно воспринимать ощущения, при потребности в пище не испытывают голода, а просто обнаруживают общую раздражительность; но они насытились — и недовольство проходит. Раздражительность является также обычным спутником усталости. Нервная система ребенка отличается усиленною восприимчивостью и чуткостью ко всякого рода внешним раздражениям. Оживленные движения, интересные картины и все, что сильно привлекает к себе детское внимание, способны быстро вызвать слишком большую затрату энергии, вследствие чего также быстро наступает нервное утомление, т.-е. резкий переход от радости к слезам, к недовольству всем окружающим, к капризам, единственный выход из которых — сон. У здоровых, сильных детей капризы часто вызываются и обратным явлением, именно, избытком энергии, тем особенным «зудом», когда во всех фибрах организма невольно испытывается непреодолимый позыв к деятельности, к движению и притом усиленному, порывистому и скорейшему движению. А его нет. Дитя еще лежит, или няня очень медлительно одевает его, или оно ждет кого-нибудь. И опять — совершенно естественная причина к плачу, к нецелесообразным движениям, к общей раздражительности. Далее, одежда, если она слишком тепла и тесна, подготовляющаяся непогода, напр., дождь, неудобства в обстановке, не обнаруживающиеся болезненные явления, несоответствующая температура и проч., все подобное способно бывает очень скоро вызвать раздражительность, капризы. Но во всех таких случаях они являются, так сказать, предохранительным клапаном: в них инстинктивно высказывается чувство самосохранения. И в виду этого они — почти неизбежны.
Такие же невменяемые, т.-е. естественные выражения эмоциональной жизни ребенка создаются нередко однообразием окружающей среды, нагоняющей скуку и на взрослого, дурным расположением духа тех лиц, которые находятся при ребенке, неуменьем или бессилием самих детей одолевать разные препятствия, какие предлагаются им для выполнения, неуважением иногда совсем безобидных желаний и оскорблением, самолюбия детей и т. п. С возникающими при этих условиях капризами было бы заблуждением вступать в открытую, запоздалую борьбу; необходимо предусматривать появление их, т.-е.. удалять вызывающие их причины. Продолжительное влияние на детскую натуру таких условий не замедлит гибельно отразиться на всей организации характера ребенка: очерствит его сердце, приучит к бездействию, разовьет в нем наклонность к грусти, к пессимизму, к необщительности, к эгоистическим порывам, к сварливости и, следовательно, к капризам, обусловленным уже испорченностью детской души.
Удовлетворяя законные требования детей, нельзя в то же время делать вредных поощрений и укреплять совершенно ненужные привычки. Случается, что воспитатели насильно навязывают ребенку потребности, в которых он совсем не нуждается и которых не проявляет. Но раз он приспособился к чему-либо, — он начинает требовать этого, когда только вздумается. Расточаемая перед ним угодливость еще более укрепляет в нем новую потребность. И если каждое из бесполезных желаний ребенка удовлетворяется с чрезмерной готовностью, то он успевает быстро всех забрать в руки. Он уже догадывается, что его крик, слезы, протесты кончаются приятными для него последствиями, достижением цели. А позднее, дитя и без намерения, без причины, только по заведенной привычке начинает повторять свои заученные опыты, применяя их во всяком удобном или выгодном для себя случае. Так искусственно развиваются капризы, по единственной в том вине воспитателей. Здоровые ранее дети становятся нервными, раздражительными, а потом, если не будет своевременно поставлено границ господству дурных наклонностей, — самодурами и бессердечными эгоистами.
Существуют, однако, и естественные причины детских капризов, врожденные недостатки детей.
В наше время необычайной горячки жизни, необузданной погони за приобретением все новых и новых благ, новых удовольствий — мы сказали бы: новых ядов, — а главное, в страшной борьбе из-за куска хлеба слишком сильно напрягаются нервы. И хотя эта тревожная «борьба за существование» падает прежде всего на взрослых и преимущественно на жителей больших городов, но и нервная система ребенка не остается пощаженной. Воспитание во всех его приемах, картины всего окружающего и, вообще, масса преждевременных впечатлений, воспринимаемых ребенком со стороны близких к нему беспокойных, суетливых и точно пришпоренных взрослых кладут тяжелую печать на нежную детскую натуру. Тут не только наследованная склонность к нервности найдет себе прекрасную пищу, но и здоровый организм развинтится необыкновенно скоро.
«Насколько широко охватила нервность наше юное поколение, — говорит Вениг, — доказывают неслыханные прежде детские самоубийства и ужасные убийства, совершаемые детьми; доказывает это также и увеличение слабости в организме нашего юношества: уменьшение остроты органов чувств, в особенности зрения, слабость желудка и хронические болезни его, бессилие мочевых органов, головные боли, эпилепсия, бессонница, тяжелые нервные расстройства и т. д»., при чем многочисленные примеры психического вырождения у детей наблюдаются уже в самом раннем возрасте, иллюстрируя этим факт наследственной передачи.
Нервные дети, в большинстве случаев, отличаются очень ранним умственным развитием, слабой организацией, тонкими чертами лица и малокровием. Они, обыкновенно, обидчивы до щепетильности, но еще более раздражительны и вспыльчивы, при самом ничтожном поводе выходят из себя, швыряют, чем попало, в провинившегося перед ними, при неудовлетворении их желаний впадают в необузданную ярость, бросаются на пол, не чувствуя боли от ушибов, заливаются горькими слезами, испускают неистовые крики, брань, жалобы, стоны, спят тревожно, страдают частыми судорогами, словом, представляют собою самую благоприятную почву для возникновения капризов. У детей, происходящих от невропатических родителей, такая чрезмерная возбудимость — обычный порок.
Дурное воспитание, конечно, в этом случае особенно содействует развитию у детей болезненных наклонностей или странностей характера. А будущность таких детей? — Известно, что взрослые, страдающие тяжелыми формами истерии, неврастении или душевными болезнями, обыкновенно уже с детства обнаруживали крайнюю раздражительность и проистекающие из нее пороки, развитие которых не встречало себе активного противодействия. Это обстоятельство указывает на чрезвычайно важную обязанность родителей и воспитателей — всегда обращать серьезнейшее внимание на проявляющиеся у детей нервные и душевные аномалии и стараться возможно скорее устранять их.
Но — легко сказать, — устранить: не легко это сделать.
Первым условием успеха в борьбе с нервностью детей является уменье воспитателя владеть собою. Прежде чем браться за воспитание других, нужно узнать и предупредить свои собственные недостатки. Кто вспыльчив, кто не может выносить противоречий, кто обнаруживает непостоянство в своих душевных настроениях — то угрюм, то весел, то нежно снисходителен, то грубо требователен — и, следовательно, бесхарактерен, тот не только не излечит нервного ребенка, но и вполне здорового сделает нервным.
Энергические и хорошо уравновешенные характеры, способные твердо сопротивляться разлагающему действию угнетающих забот и страстей, развиваются под влиянием прочных нравственных устоев. И эта сторона воспитания — важнейшая.
К несчастью, и сами родители часто не имеют ясного представления о цели воспитания, особенно когда дети еще малы и, по принятому мнению, не нуждаются еще в нравственной опеке. Совершенно справедливо на этот счет остроумное замечание Гюйо, что нравственный идеал, указываемый в большинстве случаев детям в семье, состоит в том, чтобы «не очень шуметь, не совать пальцев в нос и в рот, не есть руками, не ходить в дождь по воде и т. д., — быть умным!... Для многих родителей быть умным ребенком — значит быть маленькой марионеткой, которая двигается только тогда, когда ее дергают за ниточки». Понятно, что при таких условиях унаследованные детьми патологические наклонности получают широкую свободу развития. Все недостатки характера, слабая и капризная воля, упрямство, эгоизм, подчинение всякого рода импульсам, гневу, ярости, лжи и т. п., развиваются у них тем легче, что такие дети — потомство людей неуравновешенных, невропатов — будут часто иметь перед глазами всегда заразительные образцы пороков и нравственных пробелов своих родителей.
Чтобы быть действительным, нравственное воспитание должно начинаться с самого первого детства, когда ум ребенка наиболее податлив и не засорен еще привычками, которые встали бы поперек дороги новым, оздоровляющим, благотворным влияниям. Пру и Балле не без оснований сравнивают состояние ребенка в момент его появления на свет с состоянием загипнотизированного человека, до того восприимчив, впечатлителен и податлив детский ум. И если не все дети способны поддаваться гипнозу, как это думали раньше, за то они, бодрствуя, особенно легко подчиняются внушению своего рода, делаются вполне доступными окружающим влияниям. Такою эластичностью детского ума и следует прежде всего пользоваться в борьбе против дурных инстинктов и побуждений. Но заручиться для этого от детей вниманием и послушанием может только воспитатель, ставший для них авторитетом.
Выражаясь словами Гюйо, «авторитет слагается из трех элементов: 1) любви и нравственного уважения; 2) привычки подчиняться; привычки, создаваемой путем упражнения и 3) страха. Каждый из этих элементов входит в чувство авторитета, но должен подчиняться любви. Нежность делает бесполезным жесткий авторитет, наказание». Оно лишает детской привязанности. Если же наказанием приходится внушать страх, то оно должно быть всегда справедливо, должно выполняться спокойно, без гнева и ожесточения и лишь как исключительная мера и к очень тяжелым проступкам, напр., к открытому сопротивлению. Иначе, она не достигнет цели. Обыкновенно бывает, что наказания и чрезмерная строгость ухудшают дело, усиливают упорство детей. Повторять одни и те же выговоры и замечания — значит отнимать от них всякое влияние на ум ребенка. Наказывать без очевидной для детского понимания причины, способной вызвать нравственное сожаление заслуженности наказания, значит влиять расслабляющим образом на нервную систему провинившегося, т — е. не исправлять его, а портить. Да и вообще, строить авторитет на чувстве страха можно только под тем условием, если это орудие имеет своим назначением внушить ребенку покорность и преклонение перед более сильною волею, перед более властным характером, перед категорическим требованием. Но в этом случае страх граничит с унижением. И после этого не будет ли ребенок хитрить, лицемерить, трусить, не зародится ли в нем множество и других презренных, рабских наклонностей?
Средство заставить ребенка сдерживать свои дурные привычки, научить отказываться от того, что ему приятно, но чего он не должен делать, — это развить волю дитяти. Но достичь этого можно только путем наставлений и примеров. Дети восхищаются силой воли у других, как и физической силой, и так как дети всегда берут за образец людей, их окружающих, то давать им пример твердости, иметь волю — значит делать их твердыми и укреплять их волю. Восхищение возрастает, если ему будут сопутствовать уважение и глубокое внимание со стороны детей. А это возможно только тогда, когда все отношения к ребенку проникнуты любовью и благоразумной терпимостью к его медленному исправлению. Только такие условия невольно располагают детей к раскаянию в своих дурных поступках и поселяют в них доверие и преданность по отношению воспитателей. На этой почве уже не встретится неодолимых препятствий к нравственному воздействию на ум и волю ребенка. При постоянном тщательном уходе за физическим развитием детского организма, только подобный метод и может быть применен к укреплению его нервной системы и к борьбе против дурных наклонностей и капризов.
Резюмируя все сказанное, отметим следующие общие выводы: капризы свойственны детскому возрасту; в здоровом детском организме они могут быть естественным протестом дитяти против ненормальности условий окружающей его среды и, следовательно, требованием изменить ее; с другой стороны, они вызываются неправильно поставленным воспитанием, а именно, развитием в детской натуре ненужных потребностей и поощрением случайных наклонностей ребенка; сюда же примыкают и капризы больных детей, возникающие на почве их общей нервности, наследованной от невропатических родителей или приобретенной путем влияния.
В двух последних случаях капризные дети нуждаются в особом уходе за собою, в систематической постановке нравственного воспитания.
В таком воспитании не должно найтись места наказаниям или внушению страха.
Лучший и целесообразный воспитательный прием — пробуждение в ребенке чувств любви и уважения к воспитателю.
1 При составлении настоящего очерка приняты во внимание, между прочим, следующие сочинения:
Кейра: «Характер и нравственное воспитание».
Маудсли: «Физиология и патология души».
И. Карцев: «Капризы и раздражительность детей». Отд. отт. из «Вести. Восп.» за 1893 г.
Гюйо: «Воспитание и наследственность».
Пру (Proust) и Балле (Ballet): «Гигиеническое лечение неврастении».
Е. Н. Водовозова: «Умственное и нравственное развитие детей».
Статьи из «Вестн. Восп.» и «Женск. Образ.» за разные года.