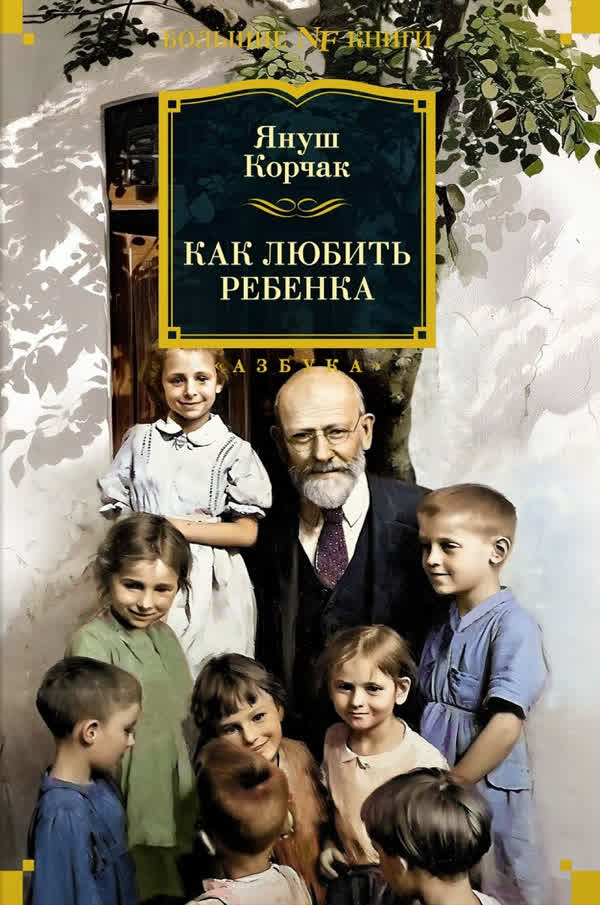
106. Любовь. Ее арендовало искусство, приделало крылья, а поверх них натянуло смирительную рубашку и попеременно преклоняло колени и давало в морду, сажало на трон и велело на перекрестке завлекать прохожих — совершало тысячи нелепостей обожания и посрамления. А лысая наука, нацепив на нос очки, тогда признавала ее достойной внимания, когда могла изучать ее гнойники. Физиология любви имеет одностороннее назначение: «служить сохранению вида». Маловато! Бедновато! Астрономия знает больше, чем то, что солнце светит и греет.
И вышло, что любовь в общем грязна и сумасбродна и всегда подозрительна и смешна. Достойна уважения лишь привязанность, которая всегда приходит после совместного рождения законного ребенка.
Поэтому мы смеемся, когда шестилетний мальчуган отдает девочке половинку своего пирожного; смеемся, когда девочка вспыхивает в ответ на поклон соученика. Смеемся, подкараулив школьника, когда он любуется «ее» фотографией; смеемся, что кинулась отворить дверь репетитору брата.
Но морщим лоб, когда он и она как-то слишком тихо играют или, борясь, повалились, запыхавшись, на пол. Но впадаем в гнев, когда любовь сына или дочки расстраивает наши планы.
Смеемся, ибо далека, хмуримся, ибо приближается, возмущаемся, когда опрокидывает расчеты. Раним детей насмешками и подозрениями, бесчестим чувство, не сулящее нам дохода.
Поэтому дети прячутся, но любят друг друга.
Он любит ее за то, что она не такая маменькина дочка, как все, веселая, не ссорится, носит распущенные волосы, что у нее нет отца, что какая-то такая славная.
Она любит его за то, что не такой, как все мальчики, не хулиган, за то, что смешной, что у него светятся глаза, красивое имя, что какой-то такой славный.
Прячутся и любят друг друга.
Он любит ее за то, что похожа на ангела с картины в боковом крыле алтаря, что она чистая, а он нарочно ходил на одну улицу посмотреть на «такую» у ворот.
Она любит его за то, что согласился бы жениться при единственном условии: никогда не раздеваться в одной с ней комнате. Целовал бы ее два раза в год только в руку, а раз по-настоящему.
Испытывают все чувства любви, кроме одного, грубо заподозренного, что звучит в резком:
«Вместо того чтобы романами заниматься, лучше бы ты... Вместо того чтобы забивать себе любовью голову, лучше бы ты...»
Почему выследили и травят?
Разве это плохо, что они влюблены? И даже не влюблены, а просто очень, очень любят друг друга? Даже больше, чем родителей? А быть может, это-то и грешно?
А случись кому умереть?.. Боже, но ведь я прошу здоровья для всех!
Любовь в период созревания не является чем-то новым. Одни влюбляются еще детьми, другие еще в детском возрасте издеваются над любовью.
— Она твоя милка? Она уже тебе показала?
И мальчик, желая убедить, что у него нет милки, подставляет ей ногу или больно дергает за косу.
Выбивая из головы преждевременную любовь, не вбиваем ли мы тем самым преждевременный разврат?
107. Период созревания — словно все предшествующие не были постепенным созреванием, то медленным, то побыстрее. Приглядимся к кривой веса, и мы поймем усталость, неловкость движений, леность, полусонную задумчивость, воздушность, бледность, вялость, безволие, капризы и нерешительность, характерные для этого возраста, скажем, большой «неуравновешенности» в отличие от прежних малых.
Рост — это работа, тягчайший труд организма, однако условия жизни не позволяют пожертвовать ему ни одним часом в школе, ни одним днем на фабрике. А как часто рост протекает почти как заболевание — преждевременный, слишком бурный, с отклонением от нормы!
Первая менструация для девочки — трагедия, ее выучили бояться вида крови. Развитие груди ее печалит, ее научили стыдиться своего пола, а грудь разоблачает, все увидят, что она девочка.
Мальчик, который физиологически переживает то же самое, психически реагирует иначе. Он с нетерпением ожидает первого пушка над губой, это ему сулит, предвещает многое, и если он и стыдится пускать петуха и жердеобразных рук, то потому, что еще не готов, должен ждать.
Вы замечали у обездоленных девочек зависть и неприязнь к привилегированным мальчикам? Да, раньше, когда ее наказывали, была хотя бы тень вины, а сейчас чем она виновата, что она не мальчик?
Девочки раньше формируются и радостно начинают демонстрировать это свое единственное преимущество.
«Я почти взрослая, а ты еще сопляк. Через три года я могу выйти замуж, а ты все еще будешь корпеть над книжкой».
Любимому товарищу детских игр посылается презрительная улыбка.
108. Давнишняя тайная неприязнь к окружающим взрослым получает фатальную окраску.
Столь частое явление: ребенок провинился, разбил окно. Он должен чувствовать, что виноват. Когда справедливо ему выговариваешь, реже встречаешь раскаяние, чаще бунт — гневно насупленные брови, взгляд исподлобья. Ребенку хочется, чтобы воспитатель именно тогда проявил доброту, когда он виноват, когда он плохой, когда его постигло несчастье. Разбито стекло, пролиты чернила, порвано платье — все это результаты неудачных начинаний, которые затевались, может быть даже несмотря на предупреждения. Ну а взрослые, просчитавшись и потеряв на сделке, как воспримут претензии, гнев и брань?
Эта неприязнь к суровым беспощадным господам существует и тогда, когда ребенок считает взрослых высшими существами.
«Ага, значит, это так, значит, вот она, ваша тайна, значит, вы скрывали, и ведь есть чего вам стыдиться».
Ребенок слышал и раньше, но не верил, сомневался, его это не касалось. Теперь он желает твердо знать, и у него есть у кого узнать, эти сведения ему нужны для борьбы с ними, взрослыми, наконец, он чувствует, что и сам уже замешан в это дело. Раньше было так: «Это я не знаю, а то знаю наверняка», а теперь ему все ясно.
«Значит, можно и хотеть, да не иметь детей, значит, и у девушки может быть ребенок, значит, можно не рожать, если не хочешь, значит, за деньги, значит, болезни, значит, все?!»
А они живут, и ничего, они между собой не стыдятся.
Их улыбки и взгляды, запреты и опасения, смущение и недомолвки — все, ранее неясное, становится теперь понятным и потрясающе выразительным.
«Ладно, ладно, сочтемся».
Учительница польского языка глаз не сводит с математика.
«Поди сюда, я тебе что-то скажу на ухо».
И смех злобного торжества, и подглядывание в замочную скважину, и изображение сердца, пронзенного стрелой, на промокашке или классной доске.
Старушка вырядилась. Старикан заигрывает. Дядя берет за подбородок и говорит: «Э-э, еще молодо-зелено...»
Нет, уже не молодо-зелено, а «я знаю».
Они, взрослые, еще притворяются, еще пытаются лгать, — значит, преследовать, разоблачать обманщиков, мстить за годы рабства, за краденое доверие, за вынужденные ласки, за выманенные признания, принудительное уважение.
Уважать?! Нет, презирать, насмехаться и помнить. Бороться с ненавистной зависимостью.
«Я не ребенок. Что думаю — мое дело. Не надо было меня рожать. Завидуешь мне, мама? Взрослые тоже не такие уж святые».
Или прикидываться, что не знаешь, пользоваться тем, что прямо сказать они не посмеют, и лишь насмешливым взглядом, полуулыбкой говорить: «Знаю», когда уста произносят: «Я не знаю, что в этом плохого, я не знаю, что вы от меня хотите».
109. Следует помнить, что ребенок недисциплинирован и зол не потому, что он «знает», а потому, что страдает. Мирное благополучие снисходительно, а раздражительная усталость агрессивна и мелочна.
Было бы ошибкой считать, что понять — это значит избежать трудностей. Сколько раз воспитатель, сочувствуя, должен подавлять в себе доброе чувство; должен обуздывать детские выходки ради поддержания дисциплины, чуждой его духу. Большая научная подготовка, опыт, душевное равновесие подвергаются здесь тяжкому испытанию.
«Я понимаю и прощаю, но люди, мир не простят».
«На улице ты должен вести себя прилично — умерять слишком бурные проявления веселья, не давать воли гневу, воздерживаться от замечаний и осуждения, оказывать уважение старшим».
Даже при наличии доброй воли и стараний понять бывает трудно, тяжело; а всегда ли встречает ребенок в отчем доме беспристрастное отношение?
Его шестнадцать лет — это родительских сорок с лишним, возраст печальных размышлений, подчас последний протест собственной жизни, минуты, когда баланс прошлого показывает явную недостачу.
— Что я имею в жизни? — говорит ребенок.
— А я что имела?
Предчувствие говорит нам, что и он не выиграет в лотерее жизни, но мы уже проиграли, а у него есть надежда, и ради этой призрачной надежды он рвется в будущее, не замечая — равнодушный, — что нас хоронит.
Помните, когда вас разбудил рано утром лепет ребенка? Тогда вы заплатили себе за труды поцелуем. Да, да, за пряник мы получали сокровища признательной улыбки. Пинетки, чепчик, слюнявчик — так все это было дешево, мило, ново, забавно. А теперь все дорого, быстро рвется, а взамен ничего, даже доброго слова не скажет... А сколько сносит подметок в погоне за идеалом и как быстро вырастает из одежды, не желая носить на рост!
— На тебе на мелкие расходы...
Ему надо развлечься, есть у него и свои небольшие потребности. Но принимает сухо, принужденно, словно милостыню от врага.
Горе ребенка отзывается на родителях, страдания родителей необдуманно бьют по ребенку. Раз конфликт так силен, насколько он был бы сильнее, если бы ребенок, вопреки нашей воле, сам своим одиночным усилием не подготовил себя исподволь к тому, что мы не всемогущи, не всеведущи и не совершенны.
110. Если внимательно вглядеться не в собирательную душу детей этого века, а в ее составные части, не в массы, а в индивиды, мы опять видим две прямо противоположные душевные организации.
Мы находим того, кто тихо плакал в колыбели, не скоро стал сам приподниматься, без протеста расставался с пирожным, смотрел издали на игры сбившихся в круг ребят, а теперь изливает свои бунт и боль в слезах, которые ночью никто не видит.
Мы находим того, кто кричал до синюхи, ни на минуту его нельзя было оставить со спокойной душой одного, вырывал у сверстника мяч, командовал: «Ну, кто играет? Возьмитесь за руки, быстро», — а теперь навязывает свою программу бунта и активное беспокойство сверстникам и всему обществу.
Я усиленно искал объяснение мучительной загадке: отчего и среди молодежи, и взрослых так часто честная мысль должна скрываться и убеждать вполголоса, а спесь задает шик и криклива? И почему доброта — синоним глупости или бессилия? Как часто толковый общественный деятель и честный политик, сами не зная почему идя на попятную, нашли бы объяснение этому в словах Елленты1:
«Я недостаточно дерзок на язык, чтобы отвечать на их остроты и ехидства, и говорить, рассуждать с теми, у кого на все готов наглый ответ альфонса, не умею».
Что делать, чтобы в соках, движущихся в собирательном организме, присутствовали на равных правах активные и пассивные личности, свободно циркулировали элементы всех воспитывающих сред?
«Я этого не прощу. Уж я знаю, что я сделаю. Хватит с меня всего этого», — говорит активный бунт.
«Брось. Ну зачем тебе это? Может, тебе это только кажется».
Эти простые слова, выражение честного колебания или простодушного смирения, действуют успокоительно, обладая большей силой убеждения, чем искусная фразеология тирании, которую вырабатываем мы, взрослые, желая закабалить детей. Сверстника не стыдно послушаться, но дать себя убедить взрослому, а уж тем более растрогать — это дать себя провести, обмануть, расписаться в своем ничтожестве; к сожалению, дети правы, не доверяя нам.
Но как, повторяю, защитить раздумье от алчного честолюбия, спокойное рассуждение — от крикливого аргумента; как научить отличать «идею» от «внешнего лоска и карьеры»; как оградить догмат от издевательства, а молодую идею — от многоопытной предательской демагогии?
Ребенок, шагнув вперед, вступает в жизнь — не в половую жизнь! — он созревает, но не в одном половом отношении.
Если ты понимаешь, что никакого вопроса тебе не решить самому, без их участия; если ты им выскажешь все, что тут сказано, а после окончания собрания услышишь: «Ну, пассивные, пошли домой! — Не будь такой активный, а то схлопочешь. — Эй, ты, догматическая среда, ты мою шапку взял...», — не думай, что они над тобой насмехаются, не говори: не стоит.
111. Мечты.
Игру в Робинзона сменили мечты о путешествии, игру в разбойники — мечты о приключении.
Опять жизнь не удовлетворяет, мечта — это бегство от жизни. Нет пищи для размышлений — появляется их поэтическая форма. В мечте находят выход скопившиеся чувства. Мечты — это программа жизни. Умей мы их расшифровывать, мы увидели бы, что мечты сбываются.
Что толкает молодежь к богеме? Одних — развязность, других притягивает экзотика, третьих — напористость, честолюбие, карьера; и только этот, один-единственный, любит искусство, он один в этом артистическом мире на самом деле художник и не предаст искусства; и умер он в нищете и безвестности, но ведь и мечтал он не о злате и почестях, а о победе. Прочитайте «Творчество» Золя; жизнь куда более логична, чем мы думаем.
Она мечтала о монастыре, а очутилась в доме терпимости; но и там оставалась сестрой милосердия, которая в неприемные часы ухаживает за больными товарками по недоле, утоляя их печаль и страдание. Другую влекло к веселью, и она полна им в приюте для больных раком — даже умирающий улыбается, слушая ее болтовню и следя угасающим взглядом за светлым личиком...
Нищета.
Ученый о ней думает, изучая, предлагая проекты, выдвигая теории и гипотезы; а юноша мечтает, что он строит больницы и раздает милостыню.
В детских мечтах есть Эрос, но до поры до времени нет Венеры. Односторонняя формула, что любовь — это эгоизм вида, пагубна. Дети любят людей одного с ними пола, любят стариков и тех, кого они и в глаза не видели, даже кого вообще нет на свете. Даже испытывая половое влечение, дети долго любят идеал, не тело.
Потребность борьбы, тишины и шума, труда и жертв; стремление обладать, потреблять, искать; амбиция, пассивное подражательство — все это находит выражение в мечте, независимо от ее формы.
Жизнь воплощает мечты, из сотен юношеских мечтаний лепит одну статую действительности.
112. Первая стадия периода созревания. Знаю, но еще сам не чувствую, чувствую, но сам еще этому не верю, осуждаю то, что делает с другими природа; страдаю, ибо нет уверенности, что сам избегну этого. Но я невинен; презираю их, опасаюсь за себя.
Вторая стадия: во сне, в полусне, в мечтах, в момент возбуждения игрой, несмотря на внутренний протест, отвращение и голос совести, все чаще и четче прорезывается чувство, которое к мучительному конфликту с внешним миром добавляет тяжесть конфликта с самим собой. Гонишь мысль, а она пронизывает тебя, как предвестник болезни — первый озноб. Существует инкубационный период сексуальных ощущений, которые сначала удивляют и пугают, а затем вызывают ужас и отчаяние.
Эпидемия разговоров шепотом по секрету и хихиканья угасает, будоражащие пикантности теряют прелесть — ребенок вступает в период взаимных признаний; крепнет дружба — прекрасная дружба заблудившихся в чаще жизни сирот, которые клянутся друг другу, что не покинут, не оставят, не расстанутся.
Ребенок, сам несчастный, уже не встречает, с тревогой и угрюмым удивлением, заученной фразой чужое несчастье, страдание и лишение, а горячо им сочувствует. Слишком занятый и озабоченный собой, не может долго плакаться о других, но он найдет время для слезы о соблазненной и покинутой девушке, побитом ребенке, узнике в кандалах.
Каждый новый лозунг, идея находят в нем внимательного слушателя и горячего сторонника. Книги он не читает, а глотает и молит Бога о чуде. Детский боженька — сказка, потом — Бог, виновник всех бед, первоисточник несчастий и преступлений, тот, кто может и не хочет — становится для него Богом великой тайны, Богом-всепрощением, Богом-разумом превыше человеческой мысли, Богом-пристанью во время бури.
Раньше: «Если взрослые заставляют молиться, значит и молитва — вранье; если критикуют приятеля, видно, он-то и укажет мне путь», ибо как можно им верить? Теперь все иначе: враждебная неприязнь уступает место состраданию. Определения «свинство» недостаточно: здесь кроется что-то бесконечно более сложное. Но что? Книга только на первый взгляд, на минуту рассеивает сомнения, а ровесник сам слаб и беспомощен. Бывает момент, когда можно вновь обрести ребенка — он ждет, он хочет тебя выслушать.
Что ему сказать? Только не про то, как оплодотворяются цветы и размножаются гиппопотамы и что онанизм вреден. Ребенок чувствует, что тут дело в чем-то значительно более важном, чем чистота пальцев и простыни, тут решается судьба его духовной основы — ответственности перед жизнью в целом.
Ах, снова стать невинным ребенком, который верит и доверяет, не размышляя!
Ах, стать наконец взрослым, убежать от переходного возраста и быть таким, как они, как все.
Монастырь, тишина, благочестивые размышления.
Нет, слава, героические подвиги. Путешествия, смена впечатлений.
Танцы, игры, море, горы.
Лучше всего умереть; к чему жить, к чему мучиться.
Воспитатель, в зависимости от того, что он приготовил к этой минуте за те годы, когда он внимательно приглядывался к ребенку, может наметить ему план действий — как познать себя, как побеждать себя, какие приложить усилия, как искать свой путь в жизни.
113. Буйное своеволие, пустой смех, веселье юности.
Да, радость, что всем скопом, торжество во сне снившейся победы, взрыв неискушенной веры в то, что наперекор действительности мы перевернем мир.
Сколько нас, сколько юных лиц, сжатых кулаков, сколько здоровых клыков, не поддадимся!
Рюмка или кружка рассеивает оставшиеся сомнения.
Смерть старому миру, за новую жизнь, ура!
Не замечают того, чей насмешливый прищур глаз говорит: «дурачье», не видят другого, в чьем печальном взгляде читаешь: «несчастные», не видят и третьего, который, пользуясь моментом, хочет положить чему-то начало, принести клятву, дабы благородное возбуждение не потонуло в оргии, не расплескалось в бессодержательных возгласах.
Часто массовое веселье мы считаем избытком энергии, тогда как это лишь проявление раздраженной усталости, которая на какой-то момент, не чувствуя преград, приходит в обманчивое возбуждение. Вспомни веселье ребенка в железнодорожном вагоне, когда ребенок, не зная, как долго будет ехать и куда, вроде бы и довольный новыми впечатлениями, капризничает от их избытка и ожидания того, что наступит, и веселый смех кончается горькими слезами.
Объясни, почему присутствие взрослых «испортит игру», стесняет, вносит принужденность...
Празднество, помпезность, у всех приподнятое настроение, взрослые так умело взволнованы, так вчувствовались в роль. А два этаких переглянулись и задыхаются, помирают со смеху, аж слезы текут от старания не прыснуть, и не могут удержаться от каверзного желания подтолкнуть локтем, шепнуть язвительное словечко, приближая опасность скандала.
«Только, чур, не смеяться. Только ты не смотри на меня. Только ты меня не смеши».
А после праздника:
«А какой у нее был красный нос! А у него галстук перекосился. Покажи: у тебя это так хорошо выходит».
И бесконечное повествование о том, как это было смешно.
И еще одно:
«Они думают, мне весело. И пускай себе думают. Еще одно доказательство, что они нас не понимают...»
Вдохновенный труд юности. Какие-нибудь приготовления, огромные усилия, действия с ясно очерченной целью, когда нужны быстрота рук и изобретательный ум. Здесь молодежь в своей стихии, здесь увидишь ты здоровое веселье и ясное возбуждение.
Планировать, принять решение, выложить всего себя и выполнить, а затем смеяться над неудачными попытками и преодоленными трудностями.
1 Цезарий Еллента (1861—1935) — польский писатель. — Примеч.ред.