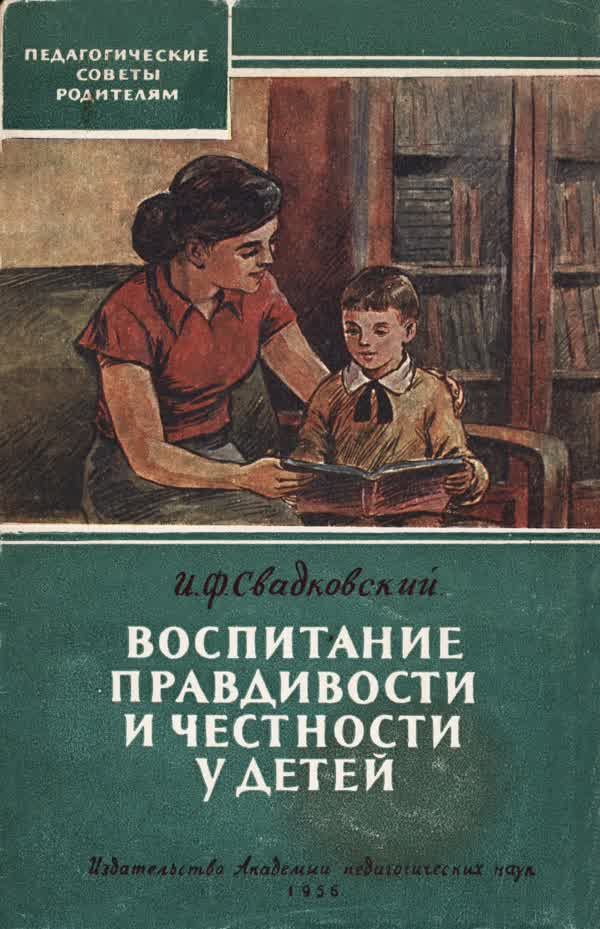
КОРНИ ДЕТСКОЙ ЛЖИ
Из того положения, что ложь, воровство и нечестное отношение к товарищам и согражданам являются продуктами капиталистического общества и что в социалистическом обществе вырабатывается правдивое и честное отношение людей друг к другу, из этой бесспорной истины не следует делать вывода, что дети, родившиеся в социалистическом обществе, сами по себе вырастут правдивыми и честными людьми. И у советских детей немало «учителей лжи». Чтобы воспитать их правдивыми и честными людьми, нужно удалять их от этих «учителей» порока, избегать с ними всякой фальши и помогать им преодолевать в себе зарождающуюся наклонность ко лжи.
Прежде всего наши дети учатся лгать и нарушать законы чести у старших.
Андрюше идет четвертый год. Он любит играть, но не всегда после игры собирает игрушки. «Кто это разбросал по полу игрушки?» — обращается к присутствующим, в числе которых находится и Андрюша, вошедший в комнату дедушка. Не успел Андрюша поднять на деда глаза и признать свою вину, как неразумная мать спешит за него ответить: «Это Миша, соседский мальчик, был у нас и разбросал Андрюшины игрушки... Андрюша — умный мальчик, он всегда убирает на место свои игрушки...»
Мать хотела подзадорить своего сына, внушить ему мысль, что хорошие мальчики всегда убирают на место свои игрушки и что Андрюша тоже должен стараться быть хорошим мальчиком и убирать свои игрушки, а на самом деле она способствовала выработке у него склонности сваливать свою вину на других.
Вот другой пример. Пятилетний Витя хочет знать, почему движется заводной автомобиль-игрушка, что находится внутри мячика. Поэтому он очень любит разбирать и ломать свои игрушки. Это — полбеды. Но вот он заинтересовался устройством папиных часов: почему они все время тикают и маленькие стрелочки все время потихоньку движутся?.. Однажды, когда он оставался один в комнате, тиканье папиных часов снова приковало его внимание. Он осторожно взял часы и поднес к уху. Потом повертел головку, потом захотелось открыть заднюю крышку, потом потрогать колесики: их так много... Часы остановились. Витя горько заплакал. Попытки вошедшей на плач мамы «починить» часы оказались безуспешными.
— Что теперь скажет папа? — заливается слезами малыш.
— Ну, успокойся же, сыночек, — утешает расстроенная мать. — Мы скажем папе, что часы уронил кот Васька.
Так неразумная мать, вытирая своему милому ребенку слезы, засоряет детскую душу ложью.
Бывают и более грубые примеры обучения детей лжи.
Таня прибежала из школы взволнованная и радостная: за четверть учебного года у нее нет ни одной тройки. Уже давно мама обещала ей купить коньки с ботинками. «Завтра же поедем покупать коньки», — говорит мать, целуя свою прилежную дочь. А в это время заходит соседка и просит взаймы немного денег.
— К сожалению, все до копейки вчера истратила, — без смущения отвечает Танина мама.
Соседка ушла. Таня опечалена. Она готова расплакаться.
— Значит, мама, завтра мы не поедем за коньками?
— Поедем, поедем, дурочка... Для тебя-то у меня деньги есть...
Таня обнимает маму. Она рада, что мама не отдала денег соседке, обманув ее.
Пример взрослых не единственный источник воспитания наклонности к обману у детей. Этот порок развивается при неправильном воспитании также и на основе ограниченности детского опыта.
Бытовые условия и житейский опыт в семьях, где неправильно поставлено воспитание детей, нередко подсказывают ребенку ложь и обман как способ удовлетворения его потребностей и желаний.
Люся, ученица II класса, очень любит конфеты. Но она знает, что денег на конфеты у мамы нет, и поэтому она обращается к ней со словами:
— Мамочка, дай денег на тетрадь.
— Я же тебе, Люся, совсем недавно покупала тетради, — недоумевает мать.
— Я одну тетрадку в классе залила чернилами, — отвечает маленькая лгунья с некоторой неловкостью, получает у матери нужные ей деньги и покупает свою любимую конфетку.
Ложь бывает для ребенка часто результатом не злой воли, а ее слабости, близорукого стремления обойти неприятности.
Ученик III класса Костя шалил в школе. Учительница сказала ему: «Передай своей маме, что я тобой сегодня недовольна». Костя мучительно думает, что делать. Не так ему страшно, что мама будет его ругать, как то, что правдивая передача слов учительницы огорчит ее. Решает: «Не скажу...» Дома, как на зло, мама спрашивает: «Как дела в школе?» — «Хорошо!» — выпаливает Костя и, чтобы мама не заметила его замешательства, стремглав, убегает играть с ребятами во двор.
Нетрудно понять, что ребенок, который превратил обман в орудие, с помощью которого он удовлетворяет свои желания и избегает неприятностей, не перестает лгать до тех пор, пока ложь не будет замеченной. Увещевания и моральные наставления в таких случаях будут касаться лишь поверхности его сознания, пока эти наставления не будут подтверждаться его повседневным опытом. Поэтому вернейшим средством борьбы с детской ложью является постоянное и неизменное ее разоблачение. Разоблачение детской лжи способствует накоплению у ребенка необходимого собственного опыта и приводит его к убеждению, что ложь является ненадежным средством, что соблазн легкого удовлетворения своих желаний с помощью обмана неизменно кончается неприятностями.
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ПРАВДИВОСТИ У ДЕТЕЙ
Способность всегда говорить правду, хотя бы непосредственные результаты этой правды влекли за собой неприятности и лишения, может возникнуть у ребенка при следующих условиях: во-первых, он должен осознать недопустимость лжи, так как она наносит вред и оскорбляет того, кому лгут; во-вторых, он должен осознать себя как личность и дорожить своей честью; в-третьих, он должен обладать достаточно развитой волей для того, чтобы подавить в себе соблазн с помощью обмана удовлетворить свои желания и избежать неприятности. Лишь на основе высокого морального сознания и достаточно сильной воли человек становится способным презирать криводушие и последовательно говорить правду, как бы горька она ни была для него самого и даже для его любимых и близких людей. Путь ребенка к этому уровню высокого морального развития его личности начинается очень рано. Семья, детский сад и школа определяют направление этого пути и степень приближения к цели каждого отдельного ребенка.
* * *
Неопытные родители, желая бороться с наклонностью ко лжи у своих детей, иногда наносят им тяжелые душевные раны, называя ллгунами, и не только не содействуют выработке у детей правдивости, но, наоборот, тормозят их моральное развитие.
Не всегда можно ребенку, рассказывающему о себе или о наблюдавшихся им событиях, сказать «ты лжешь», если бы даже его рассказ и был чистейшим вымыслом. Надо иметь в виду, что маленькие дети часто ошибаются из-за своей малоопытности, еще не окрепшей памяти и неумения отличать факты от фантазии.
Может быть, ребенок повествует о происшествии именно так, как он его воспринял, как он его понял и запомнил. Может быть, то, что сохранила о происшествии его несовершенная память, он не отличает от того, что добавляет его пылкое, не сдерживаемое опытом воображение. Может быть, он наивно и искренне ошибается, стремится рассказать правдиво все, что сам знает или во что сам верит. Воспитатель должен отличать детскую ошибку от детской лжи. Ошибка есть отклонение от истины. Ложь есть отклонение от правды. Истина есть такая мысль, которая верно отражает объективную действительность; правда же есть прежде всего нравственная идея, указывающая на искренность говорящего, на соответствие его слов действительным мыслям и намерениям. Можно обладать истинным знанием предмета, но в известных целях говорить о нем неправду. Ложь есть сознательное отклонение от истины с корыстными или другими неблаговидными целями. И наоборот, можно заблуждаться, уклоняться от объективной истины, но правдиво рассказать обо всем, что думаешь, что чувствуешь, чего желаешь. Нельзя поэтому наивную детскую ошибку рассматривать как безнравственную ложь. Подобное незаслуженное обвинение в безнравственности способно глубоко оскорбить ребенка, толкнуть его к замкнутости, поселить неверие в справедливость, спутать его моральные представления и задержать его моральное развитие.
Если ребенку трудно разобраться в том, что он видит вокруг себя, то еще более трудно разобраться ему в самом себе, в своих переживаниях. Поэтому особенно осторожно нужно отнестись к нему, когда он ошибается в отношении самого себя и говорит вам о себе не то, что с ним происходит на самом деле.
Вот маленькая лакомка через десять минут после обеда заметила в буфете приготовленные к ужину сладкие пирожки и без тени смущения обращается к матери: «Мамочка, я очень хочу кушать. Дай пирожок...» Ну, конечно, эта девочка сыта и говорит совсем не то, что есть на самом деле: ей хочется полакомиться, а она заявляет о своем голоде. Но она не солгала, а только ошиблась в выражении своего душевного состояния и своих желаний. И если бы мать ответила этой девочке «ты лжешь», то она поступила бы несправедливо по отношению к ней и нанесла маленькой душе большую рану. Ошибки надо исправлять. Надо помогать ребенку отличать истину от заблуждений, учить его правильно мыслить, правильно разбираться в окружающем его мире и в его собственных переживаниях, но нельзя при этом упрекать его в обмане.
* * *
Положительным фактором развития правдивости у человека является то доверие, которое люди оказывают правдивому человеку. Но чтобы заслужить у людей доверие, надо всегда говорить им правду. Однако это не так легко. Неизбежна внутренняя борьба. Воспитатель, который умело вызвал у ребенка эту борьбу и поддерживает в нем стремление пользоваться доверием, стоит на верном пути. Одним из самых существенных условий правильного воспитания правдивости у ребенка является тактичная проверка его слов. Наивную детскую ложь надо так разоблачить, чтобы у ребенка, с одной стороны, отпала охота лгать и, с другой стороны, появилось бы желание, возникла бы потребность говорить правду.
Малыш, рассказывая о своих подвигах, замечает ваш интерес к нему и ваше одобрение проявленных им смелости и отваги. И вот он, едва умея плавать, повествует о том, как далеко заплыл он сегодня во время купанья и как, ныряя, он чуть не схватил руками большую рыбу. Он знает, что никакой рыбы во время купанья он вовсе не видел, и с досадой вспоминает о том, как он был осмеян своими товарищами за неумение плавать. Ой знает, что все рассказанное им есть чистейшая фантазия, но он хочет, чтобы вы поверили этой его фантазии.
Вы понимаете эту наивную детскую ложь, но спокойно слушаете до конца и заключаете: «А я думал, что ты уже умеешь отличать быль от небылицы! Оказывается — я ошибся: верить тебе пока нельзя...»
Люсина мама, проверив на следующий день в школе сообщение своей дочери о происшествии с тетрадкой, якобы залитой чернилами, встречает свою маленькую лгунью примерно такими словами: «Ты меня, дочка, обманула... Верить тебе, оказывается, не всегда можно. Тетради отныне я буду покупать сама». На Люсины слезы и уверения, что она никогда больше не обманет свою мамочку, мать с волнением говорит: «Может быть, ты меня и любишь, этому я могу поверить, но чтобы ты всегда мне правду говорила, в этом я еще должна убедиться. О, как бы я хотела иметь дочку, которой бы я могла во всем довериться!..»
«Милый мой сын, — говорит Костина мать, узнавшая в школе о том, что мальчик утаил от нее замечание учительницы, — я знаю, что ты обманул меня потому, что не хотел огорчать меня своим поведением. Я знаю также, что ты решил больше не шалить в школе. Но если бы ты знал, как мне горько думать, что я теперь не могу тебе больше доверять, что ты боишься сказать правду своей маме?..»
Ребенок, поняв, какое имеет значение всегда говорить правду, старается научиться контролировать свои слова и свои желания. Боязнь быть уличенным в неправде делает его более вдумчивым в своих наблюдениях и в своих размышлениях. Он становится более осторожным в своих утверждениях. Когда же ребенок сознательно установил для себя недопустимость лжи и обмана как порочащих его имя и научился на практике говорить невыгодную для себя и иногда горькую для своих близких правду, он вырастает в собственных глазах, утверждает себя как личность. Он прощает себе и другим ошибки, но обман — никогда.
В тот период, когда ребенок начинает вдумываться в значение правды и лжи, очень важно дать ему соответствующий материал для размышления. Народные сказки, классические мифы и художественные произведения, в которых осмеиваются жалкие, трусливые лгунишки и возвеличивается смелая правда, помогают ребенку шире и глубже понять объективную необходимость и моральную красоту правдивости, возвыситься над повседневными мелкими, эгоистическими побуждениями, оценивать свои наклонности и поступки в свете моральных принципов как законов общественной жизни человека.
ПРАВДИВОСТЬ И ТОВАРИЩЕСТВО
Быть всегда и до конца правдивым — дело нелегкое. Особенно трудно говорить правду о товарище, тайну которого знаешь. Не всегда родители и учителя понимают, что переживает ребенок, когда они требуют от него правдивых свидетельских показаний о скрываемых проступках его товарища. В таких случаях говорят о «ложном товариществе». Но для ребенка его товарищ есть настоящий, а не ложный друг. Именно этому товарищу он доверяет и именно этот товарищ ждет от него верности. Перед ним, таким образом, предстает неразрешимая задача: раскрыть тайну — значит вероломно выдать товарища, обмануть его доверие, сохранить тайну — значит солгать, обмануть доверие учителя или матери. На какой бы путь ни стал ребенок, он в собственных глазах оказывается обманщиком. Воспитатель требует от него выдать товарища, т. е. обмануть его, изменить своему слову, внутреннее же чувство справедливости ребенка не позволяет ему сделать это. И вот он, набравшись духу, дерзко смотрит в глаза своему отцу или учителю и говорит: «Я ничего не знаю!..» Свое смущение он прячет за напускным равнодушием или вызывающим бравированием. На его лице, в его глазах можно прочитать: «Ну что ж, что вы знаете о том, что я вам сказал неправду. Ну и считайте меня лгуном...» Так возникает раздвоение детской души. Так закладывается фундамент многих пороков: сознательной лжи, неискренности, криводушия, дерзости и грубости по отношению к родителям и старшим вообще.
Еще хуже, если под напором аргументов и добрых чувств и доверия к воспитателю он наберется духу, чтобы рассказать о проступках своего товарища. В таком случае он делается отщепенцем в том самом коллективе, в котором должен жить и учиться, быть правдивым и верным товарищем. Отсюда проистекает целая вереница пороков: ябедничество, подхалимство, индивидуализм, черствость, неверие в людей и лживость.
Как же быть?
На этот вопрос есть только один правильный ответ: не нужно ставить ребенка в заколдованный круг, из которого нет честного выхода, не следует прибегать к порочному методу розыска виновных путем выспрашивания у отдельных детей группы, среди которых «укрывается» провинившийся ребенок.
— Неужели, — спросит меня читатель, — следует закрывать глаза на совершающиеся детьми безобразия, если каждый из них прячется за спину другого?
Конечно, нельзя оставлять без внимания проступки детей, иначе среди них будет укрепляться мнение, что воспитателя легко обмануть и что с помощью обмана можно избежать заслуженного наказания. Безнаказанность же неизбежно ведет к распущенности и многим связанным с ней порокам:грубости, лени, трусости и лжи.
Чтобы разобраться в этом сложном и трудном вопросе, нужно прежде всего выяснить, на какой основе возникает стремление детей укрыть за собой провинившегося ребенка, сделать его проступок безнаказанным. Если дети осуждают проступок и считают его недопустимым в своей среде, они не будут стоять горой за того, кто его совершил. Наоборот, они сами потребуют сурового наказания, они не захотят терпеть позорящие их коллектив поступки.
Следовательно, когда дети идут на то, чтобы обмануть старших и таким путем избавить провинившегося от наказания, они не считают данный проступок достойным наказания, оправдывают провинившегося. Какой же вывод должен сделать воспитатель из анализа подобного противоречивого положения? Нужно, очевидно, разубедить детей, исправить их неправильные представления, выработать у них правильные моральные понятия. Нужна серьезная воспитательная работа.
Если ребенок полон любви и доверия к своим родителям и воспитателям, если он уверен в их справедливости и добрых к себе чувствах, он не станет скрывать своей вины и укрывать проступки своих товарищей. Напротив, как показывает повседневный опыт, дети спешат со всеми своими сомнениями и бедами за помощью даже к строгому и суровому, но заботливому и справедливому воспитателю. Возникновение конфликта между ребенком, не сознающимся в совершенном им проступке, и укрывающими этого ребенка его товарищами, с одной стороны, и воспитателем — с другой, указывает на трещину, образовавшуюся между воспитателем и его воспитанниками: дети его боятся и не доверяют ему. Следовательно, чтобы устранить возможность запирательства и обмана со стороны детей, надо заботиться о детях, знать их нужды, влечения, мысли, надо пользоваться их доверием. Это опять-таки дается лишь большой воспитательной работой.
Путей к тому, чтобы знать мысли, чувства и поступки ребенка, у родителей, школьных учителей и воспитателей детского дома великое множество. Прежде всего в их распоряжении естественная потребность ребенка рассказать старшему человеку, которому он доверяет, обо всем, что он видел и что сделал. А когда вы замечаете, что с вашими детьми произошло что-то такое, что заставляет их таиться, скрывать от вас свои поступки, то разве у вас не найдется темы для беседы с ними? Расскажите им случай из своей жизни или жизни общих знакомых, прочитайте художественный рассказ соответствующего содержания. Главное ведь в том, чтобы довести до сознания детей предосудительность совершенного проступка безотносительно к тому, кто его совершил. Важно не то, чтобы дети поторопились свалить с себя вину на одного из своих товарищей, но то, чтобы все они почувствовали свою ответственность и стыд за совершенный одним из них проступок.
Прежде чем переходить к выявлению виновных, дайте детям побольше убедительных примеров из жизни и литературы, в которых раскрывается моральная сила и красота смелой правды перед лицом опасности; на ярких образах раскройте перед ними источники лжи, связь ее с трусостью. Можно попутно выразить сожаление, что среди них есть слабые, боящиеся сказать правду, но не следует требовать, чтобы дети назвали их. Нужно дать возможность друзьям и товарищам совершившего проступок ребенка помочь ему обрести мужество, чтобы самому рассказать обо всем. Если же он будет продолжать молчать или станет бравировать своим хладнокровием, можно не сомневаться, что его товарищи открыто и без подталкивания расскажут все и сами будут просить у воспитателя помочь им воздействовать на их упрямого товарища.
Важно поднять нравственное сознание детского коллектива на такой уровень, при котором скрываемый проступок сжигает сердце каждого, кто о нем знает. Когда этот проступок получит всеобщее моральное осуждение, вопрос о признании становится второстепенным и найдет свое решение самым неожиданным образом. Если виновник придет к вам поведать «тайну» наедине, свято Храните эту тайну от неумеренно любопытствующих товарищей. Если к вам придет один из товарищей «посоветоваться» наедине, что делать, не добивайтесь разоблачения, если это не вынуждается какими-нибудь необычайными обстоятельствами.
Примером умного и тактичного решения вопроса о разоблачении скрываемого детьми проступка может служить случай, происшедший в одной московской школе.
Когда учащиеся V «в» класса во главе со своей классной руководительницей направлялись из школы в Политехнический музей на экскурсию, один из учеников, пользуясь суматохой в трамвае, не передал кондуктору деньги за проезд. Однако это было замечено кондуктором, который после двукратного вопроса: «Кто еще не взял билет?» — обрушился потоком гневных слов и на школу, и на учительницу за то, что они так плохо воспитывают детей. Учительница молча уплатила за билет вместо этого ученика.
Экскурсия прошла очень хорошо. Не проронив ни одного слова о неприятном случае, учительница распустила класс по домам.
На другой день весь класс напряженно ждал бурной беседы. Однако Анастасия Васильевна провела свои уроки, как всегда, не показав и вида, что она помнит о вчерашнем. Кончились уроки: ждали, что Анастасия Васильевна будет беседовать о случившемся после уроков, не расходились. Но Анастасия Васильевна зашла в класс только для того, чтобы сказать: «Идите по домам!..» Так прошла целая неделя в напряженном ожидании. Все дети хорошо понимали, что произошло из ряда вон выходящее событие; почему же молчит та самая Анастасия Васильевна, которая не пропускает обычно ни одного пустячного нарушения дисциплины?..
В классе была установлена традиция: по субботам после уроков подводить итоги за неделю. На субботних собраниях класса присутствовали многие родители.
— Это она к субботе приберегает! — делали предположения ученики.
Однако на субботнем собрании класса Анастасия Васильевна обстоятельно доложила о достижениях и недочетах в работе класса и отдельных учеников за неделю, отметила успех экскурсии в Политехнический музей, подчеркнув при этом весьма лестный отзыв работников музея о поведении всего класса. «Нас хвалили, и мы действительно в музее не уронили честь нашей школы», — заключила она свой обзор.
О событии же в трамвае ни слова... Борис сидел на средней парте неподвижно, потупив свой взор. Видимо, его терзала совесть. Однако руки он не поднял и слова не попросил.
Закрывая собрание, Анастасия Васильевна сказала:
— Да вот еще... был у нас один случай: один из учеников нашего класса обманул кондуктора трамвая на пятак...
Борис вспыхнул, зашевелился, хотел что-то сказать, но Анастасии Васильевны в классе уже не было.
Слово «пятак» долго не сходило с уст учащихся V «в» класса. Обсуждали его на страницах классной газеты, на сборе пионерского отряда, в школьном коридоре...
Нет ничего удивительного, что после описанного эпизода в классе Анастасии Васильевны резко улучшилась дисциплина и Борис стал одним из активных и дисциплинированных учеников.
ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ СЛОВУ
Когда человек не выполняет данного им обещания, то о нем говорят, как об обманщике. В отношении детей это не совсем правильно. Дети легко дают обещания и часто плохо их выполняют, несмотря на самые лучшие намерения. Причины невыполнения ребенком своего обещания заключаются не в желании ввести вас в заблуждение, а в неумении преодолеть препятствия, лежащие на пути выполнения его намерения.
...Миша заигрался и забыл о том, что он обещал маме сбегать в детский сад за своим маленьким братом, а когда вспомнил, то было уже поздно.
...Петя дал слово своей маме, что не уйдет гулять, пока не решит всех задач. Одна задача оказалась непонятной. А тут через окно он услышал, как во дворе весело шумят дети. «Вечером решу», — оказал он себе и убежал гулять.
...Витя дал слово своей учительнице больше не шалить в классе и сидеть тихо, но не прошло и пятнадцати минут, как учительница должна была напомнить ему о данном обещании...
Соблюдение своего слова зависит от двух условий: 1) от способности обдумывать сложность и трудность даваемого обещания, а также учитывать свои силы и 2) от способности преодолеть препятствия, лежащие на пути выполнения данного обещания.
Оба эти условия возникают только при наличии значительного опыта и развитой воли ребенка. Поэтому нельзя всегда ожидать верности своему слову от маленьких детей. Странно было бы упрекать маленького ребенка в том, что он не выполняет своего слова. Будучи во власти своих непосредственных эмоций и желаний, он не может вам не обещать. Его обещание означает не более, как желание. О своем обещании малыши 3—5 лет быстро забывают. Упрека в нарушении данного ими слова они не понимают. Всякие разъяснения и наставления бесполезны. Наказание же способно только обидеть или озлобить.
Основным стимулом для ребенка помнить и держать данное им слово является желание сохранить и увеличить доверие к себе. Следовательно, надо начинать воспитание верности своему слову с возникновением у ребенка потребности в доверии со стороны товарищей и близких ему взрослых. Такая потребность, естественно, возникает в процессе коллективной деятельности, в труде, в играх, в быту. В процессе же коллективной деятельности у ребенка развивается осторожность, необходимая при даче обещаний, укрепляется воля, необходимая для выполнения этих обещаний.
Естественным следствием невыполнения обещания является лишение доверия. Ребенку, который легкомысленно дает любое обещание, уместно сказать: «Не торопись с обещаниями... Ты еще не умеешь держать своего слова».
Элементарное стремление ребенка сохранить и закрепить за собой доверие со стороны товарищей и близких ему взрослых с осознанием им себя членом коллектива переходит в сложное чувство чести. Он начинает дорожить своей репутацией в целом, дорожить репутацией своей семьи, своего класса, своей школы, своего пионерского отряда. Естественно, что и методика воспитания верности своему слову становится более сложной. В ее основу ложится честь.
«Ты не подготовил обещанную тобой статью в газету... подвел весь отряд... газета выйдет с опозданием...» Если в данном отряде развито чувство пионерской чести, то нет никакой необходимости в более строгом наказании, чем приведенные слова редактора стенной газеты отряда.
Когда перед ребенком возникает личная проблема верности своему слову, когда он поклялся себе «расшибиться в лепешку», но слово свое сдержать, очень важно укреплять его в этом решении. Художественные произведения, в которых изображаются мужественные и правдивые характеры, и рассказы из жизни, в которых подчеркивается нравственная красота верности своему слову, могут оказать подростку в его работе над собой большую помощь.
Очень важным фактором воспитания у детей верности своему слову является пример родителей, близких и учителей. Там, где много обещают, но мало выполняют, где угрожают, но бессильны привести угрозу в исполнение и где много раз говорят об одном и том же — иначе говоря, там, где практикуется разрыв между словом и делом, нельзя воспитать у ребенка уважения к его собственному слову, стремления и умения во что бы то ни стало выполнять свои обещания.
СОЗНАНИЕ И ЧУВСТВО ЧЕСТИ
Малышу приятно, когда его называют послушным. Школьник доволен, когда отмечаются его прилежание и скромность. Подросток негодует на ошибочно приписываемую ему ложь: он ведь научился всегда говорить только правду и требует, чтобы ему всегда верили.
Так постепенно в душе ребенка закладывается сложное и глубокое социальное чувство чести. Это чувство на некотором этапе своего развития становится характерной особенностью личности и превращается в большую нравственную силу этой личности. Чувство и сознание своей чести отражает в душе ребенка его связь с коллективом. Чем сильнее, живее и глубже это чувство, тем, следовательно, прочнее и проникновеннее установилась духовная связь данного ребенка с коллективом, в котором он находится. Пятно на его личной чести имеет своим следствием уменьшение доверия к нему со стороны товарищей. Потеря же чести вызывает презрение со стороны друзей и товарищей, моральное исключение из коллектива. Дорожить своей честью — значит стремиться быть всегда и во всем на высоте нравственных требований своего коллектива. Честь не позволяет солгать, обмануть, не сдержать слова. Честь требует безусловной искренности в отношениях с людьми. Честь не позволяет проявить малодушие в опасности и требует бесстрашия и подвига.
По мере осознания своих связей с коллективом ребенок осознает свою ответственность не только за свою личную честь, но также и за честь своего коллектива. Он защищает честь своей семьи, своего класса, своего пионерского звена, своего пионерского отряда, своей школы, своей пионерской дружины, своей Родины.
Развитие чувства и сознания коллективной чести поднимает на новую ступень чувство и сознание личной жизни: свое поведение ребенок теперь согласует не только с требованиями личной чести, но прежде всего с интересами чести своего коллектива.
Вот школьники едут в поезде на экскурсию. Тут немало забияк и шалунов, которым трудно удержать себя от проказ. Но они здесь вместе со своим классом, их проказы лягут черным пятном на честь класса и школы, на честь их учителей, — и они сдерживают свои порывы резвости, ведут себя так, как положено вести себя в общественном месте.
Вот подростки детского дома пришли на колхозное поле помогать собирать урожай. Не все из членов этой детдомовской бригады отличаются большим трудолюбием и примерным поведением. Колхозники не ожидали детей, к их приходу не было сделано необходимых приготовлений: дети встретили здесь много мелких неудобств и имели немало поводов к выражению неудовольствия. Работа однообразна и скучна. Инструмент неисправен. Нет благоустроенного крова. Однако все дети ведут себя здесь много лучше, чем дома. Каждый молча и терпеливо переносит неудобства и тяготы. Все прекрасно работают, вызывая одобрение колхозников.
Когда бригада возвратилась с поля, ужин еще не был готов. «Придется немного подождать, ребята», — извиняется девочка, назначенная «поваром» детдомовской бригады. Ребята молча отходят от столов, чтобы растянуться на лужайке и терпеливо ждать. «Миша, — обращается повариха к первому попавшемуся ей на глаза пареньку, — сбегай к ручью, принести воды.» Миша устал и не обязан сегодня ходить за водой — для этого назначены дежурные, но он молча поднимается, берет ведра и, превозмогая усталость, отправляется к ручью. Иначе вести себя здесь нельзя, потому что колхозники не станут разбираться в вопросе о том, почему дежурные не оказались на высоте положения и не принесли своевременно достаточно воды, и в случае перебранки и препирательств по этому поводу будут дурно судить обо всем детском доме.
Сильное чувство личной и коллективной чести имеет исключительно большое значение в моральном развитии человека. От человека, лишенного чувства чести, не ждут ни верного слова, ни последовательно честного отношения к людям и общественной собственности, ни тем более героических подвигов. Поднявшись на уровень развитого чувства и сознания личной и коллективной чести, ребенок обретает огромную силу для морального и интеллектуального развития своей личности. Поэтому забота о воспитании развитого чувства чести у каждого ребенка является в то же время и заботой о формировании всего морального облика как отдельных детей, так и всего детского коллектива.
* * *
Как же воспитать у ребенка сознание и чувство личной и коллективной чести? На этот вопрос можно ответить только с учетом социальной природы этого чувства, с учетом законов его зарождения и развития.
Осознавая свое положение в обществе, ребенок хочет, чтобы о нем думали не хуже, чем он есть на самом деле. Это честь. Но иногда случается так, что дети хотят иметь о себе самое лучшее мнение, не заботясь о наличии тех моральных качеств, которые порождают такое мнение. Это честолюбие. Честь есть добродетель, честолюбие — порок. Всемерно поощряя честь ребенка, надо пресекать честолюбие в его зародыше.
Почвой, питающей чувство чести, является уважение личности ребенка, признание его моральных достоинств. Тот воспитатель, который не преминет отметить моральное достижение ребенка и сделать этот факт известным всему коллективу, крепит чувство чести этого ребенка. Наоборот, тот воспитатель, который проходит мимо нравственных усилий и достижений ребенка, убивает и неокрепшее чувство чести этого ребенка. Ребенок, нравственные усилия которого никогда не были замечены и общественно признаны, в случае порицания за нарушение какого-нибудь нравственного обязательства и апелляции к его чести, может сказать: «А мне все равно, как обо мне думают...»
Иногда родители и воспитатели, меньше всего сделавшие для развития сильного чувства чести у своих воспитанников, любят стыдить и позорить их: «Как тебе не стыдно обманывать...», «Бессовестный обманщик...», «Поглядите на этого лгунишку...» Конечно, подобные эпитеты и характеристики детям неприятны. Но при отсутствии у них развитого чувства чести они видят в этих словах лишь род ругательства, выражение неудовольствия воспитателя. Вскоре они привыкают к этому, как к дозе привычного наказания. Последствием подобного рода воспитания является исчезновение у детей чувства чести и бравирование неблаговидными поступками.
Всемерно оберегать честь ребенка, щадить его самолюбие в деле чести и защищать его честь всеми средствами, если только с какой-либо стороны возникает угроза его доброму имени, — вот правило воспитания, которым опытные воспитатели пользуются с неизменным успехом.
В школе ребенка заподозрили в воровстве. Мать, воспитательница детского дома, классный руководитель — всякий, кто близок к оскорбленному ребенку, убедившись в неосновательности подозрения, идут к директору школы и настойчиво требуют реабилитации своего сына, воспитанника, ученика. Оскорбленному ребенку приносят извинения. Честь его восстановлена.
Маленькой девочке, упавшей со ступеньки крылечка, показалось, что ее толкнули стоявшие тут старшие девочки. Обидеть малышку — большой проступок, но на самом деле она сама оступилась, никто ее не толкал. Подозрение девочек в столь неблаговидном поступке — удар по их чести. Вот почему классная руководительница, разобравшись в деле, не успокаивается до тех пор, пока это подозрение не будет снято и честь заподозренных девочек не будет в школе восстановлена.
Когда дети знают, что их доброе имя под защитой отца, матери, братьев, пионерского вожатого, классного руководителя и учителей, когда они уверены, что ни одна «напраслина» не будет безнаказанно на них возведена, они неизбежно становятся чуткими как к индивидуальной, так и к коллективной чести. Честь семьи, детского дома и школы становится критерием для их поведения в школе, дома и всюду, где они оказываются среди людей.
Может быть, ничто так не сближает родителей с их детьми, а учителей и воспитателей с их учениками и воспитанниками, как неусыпная забота о чести этих детей. И наоборот, оскорбление чести ребенка или безразличное к ней отношение со стороны родителей, учителей или воспитателей неминуемо вызывает недоверие и отдаление от них этого ребенка. Воспитатель, который ошибочно заподозрил в чем-нибудь ребенка сам или поддержал несправедливое обвинение со стороны других и не позаботился о восстановлении его поруганной чести, навсегда потерял любовь и доверие этого ребенка.
Ткань жизни сложна и нередко бывает запутана. Случается иногда так, что опытные и чуткие педагоги ошибаются и бывают повинны в оскорблении чести своих воспитанников. Они могут неправильно обвинить ребенка в совершении проступка, которого тот на самом деле или вовсе не совершал, или же совершил без умысла, нечаянно, по несчастному стечению обстоятельств. Детальное изучение обстоятельств приводит их к выводу о невиновности ребенка. Но уже самый факт разбирательства, самый факт подозрения есть оскорбление чести.
Честь есть большое человеческое чувство. Оно не становится менее серьезным и менее большим оттого, что помещается в маленькой детской груди. Правильно поэтому делают родители и воспитатели, когда не стесняются признать свою ошибку и извиниться перед оскорбленным ими ребенком. Дети платят им за это горячей любовью.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ ЧЕСТНОСТИ
В буржуазном обществе в основе человеческих отношений лежит частная собственность на средства и орудия производства. Поэтому буржуазная мораль сводит понятие честности главным образом к уважению прав другого человека на его частную собственность. Естественно, что буржуазная педагогика связывает воспитание честности с охраной личных прав на частную собственность. Наказание, возмездие за преступление против частной собственности рассматривается в буржуазной педагогике как главный, если не единственный, метод воспитания честности.
В социалистическом обществе в основе человеческих отношений лежит общее благо и общественная собственность. Поэтому коммунистическая мораль основывается на признании и защите интересов всего социалистического общества, на признании и защите интересов коллектива, в котором живет и трудится человек. При социализме интересы отдельных людей не противоречат интересам общества; напротив, каждый человек имеет все возможности удовлетворения материальных нужд и всестороннего духовного развития именно в процветающем социалистическом обществе. Коммунистическая мораль поэтому вкладывает в понятие честности неизмеримо более широкое и глубокое содержание, чем это делает буржуазная мораль.
Бьггь честным — значит всегда блюсти интересы социалистического государства, охранять социалистическую собственность, уважать интересы, как материальные, так и духовные, своих товарищей и всех борющихся за дело коммунизма, бороться со всякими формами криводушия, подхалимства, стяжательства. Уважение общественной собственности и личной собственности трудящихся есть лишь одна из сторон честного поведения члена социалистического общества. Естественно, что советская педагогика не может перенять методику воспитания честности у буржуазной педагогики. Связывая воспитание честности у детей с задачами укрепления социалистической собственности, процветания социалистического государства, в основу этого воспитания она кладет общее благо. Так как советская педагогика связывает воспитание честности с интересами коллектива, членом которого является ребенок, то она опирается при этом прежде всего на общественный интерес детей и их общественное мнение.
Теоретик буржуазной педагогики Жан-Жак Руссо полагал, что его идеальный воспитанник Эмиль не имел никакого понятия о собственности и честности, пока на личном опыте не убедился, как плохо, когда кто-то похищает плоды его трудов. Руссо, конечно, исходил из буржуазного понимания собственности.
Массовая практика советского воспитания опровергает буржуазную теорию о том, что ребенок может усвоить понятие честного отношения к чужой собственности лишь на основе собственного опыта, и неопровержимо доказывает могущество общественного мнения в процессе морального формирования ребенка. По мере того, как ребенок осознает себя как член коллектива, он убеждается в святости общественной собственности, в которой он заинтересован и охранять которую обязан. Рост общественного сознания ребенка социалистического общества заключается в том, что он открывает для себя все новые и новые сферы общественной жизни и общественных интересов, все глубже и полнее понимает задачи строительства коммунизма и все более многочисленными, более крепкими нитями связывает судьбу своей личности с судьбой своей, социалистической Родины. Воспитание честности как черты личности человека является неотъемлемой составной частью роста его общественного сознания.
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ЧЕСТНОСТИ
Ребенок очень рано начинает понимать, что предназначается для его личного пользования и чем он может распоряжаться по своему усмотрению, а что предназначается для других и чем распоряжаться он не смеет. Он отличает свои игрушки от игрушек своих товарищей. Он знает свое платье, свою обувь. Он знает, что можно съесть сладкое, лежащее на его тарелке, но нельзя съесть такое же сладкое, приготовленное для его соседа.
Моральные понятия и моральные чувства возникают не только под влиянием личного непосредственного опыта, но, прежде всего, под влиянием традиций и быта того коллектива, в котором живет ребенок.
Ребенок сначала узнает о требованиях к его поведению, которые предъявляются со стороны окружающих его людей, й лишь с течением времени усваивает в полном объеме значение этих требований. Поэтому неправы те родители, которые либо оставляют своих детей на волю случая и их личного опыта, либо занимаются морализированием, пытаясь разъяснить малышам смысл моральных требований раньше, чем у них накопился для понимания этих разъяснений достаточный жизненный опыт и знание общественной жизни. Правильно поступают те родители, которые неуклонно требуют от своих детей быть честными всегда и всюду. Сначала для ребенка руководителем будет пример старших, их авторитет. Потом постепенно требование честного поведения будет им осознаваться как разумный принцип коммунистической морали. Нельзя поэтому к детям разного возраста и разного умственного и морального развития подходить с одной меркой, с одними и теми же методами. Воспитание честности должно пройти ряд ступеней.
* * *
У маленького ребенка общественный кругозор еще узок, воля слаба. Преодолевать соблазн удовлетворения какого-нибудь своего желания только потому, что это «запрещено», ему очень трудно. И если это желание можно удовлетворить «потихоньку», чтобы никто не знал и не видел, то он не в силах побороть такой соблазн. Отсюда проистекает наивное детское воровство. Если с ранних лет ребенок не приучился к порядку и воздержанию от некоторых своих желаний и если его личный опыт показывает, что «потихоньку» съеденная конфета так же вкусна, как и всякая другая, и что за «тихонько» взятые из папиного кармана деньги можно безнаказанно купить и сладостей, и игрушек, он будет практиковать такой способ удовлетворения своих потребностей, хотя бы знал, что старшие почему-то запрещают это.
Нетрудно понять, что безразличие и невнимательность родителей к подобного рода поступкам их детей чреваты большими опасностями. Наивное детское воровство, укоренившись, превращается в наклонность не уважать общественную и чужую личную собственность и порождает чреватые тяжелыми последствиями пороки: эгоизм, ложь, двоедушие, замкнутость. Наставления и увещевания, практикуемые обычно в таких случаях, очень мало изменяют поведение детей: лишенные пока понятия общественной собственности и ее значения, не развившие в себе живого чувства ответственности перед коллективом, в котором они живут, не осознающие свою личность, слабовольные дети забывают такие увещевания и наставления, как только возникает повод удовлетворить свои желания, во власти которых они находятся, тайком от тех, кто мог запретить или помешать удовлетворению этих желаний, т. е. вновь прибегают к воровству.
Условием воспитания честности и предупреждения детского воровства является такой порядок, при котором ничто не может исчезнуть «незаметно», а всякая пропавшая вещь разыскивается до тех пор, пока не будет найдено. В семье, в школе, в пионерском лагере, в детском доме, где может незаметно потеряться вещь и где при обнаружении пропажи подозревают, но не ищут и не находят виновника этой пропажи, скорее содействуют воровству, чем борются с ним. Подозрение оскорбляет, но не убеждает.
* * *
В некоторых плохо организованных семьях и детских учреждениях практикуется метод опозоривания пойманного в воровстве ребенка. Такой метод не только не способен укрепить в детях честность, но, наоборот, выбивает из-под их ног почву, стоя на которой они могли бы усвоить принцип честного отношения к чужой собственности и развить силы для следования этому принципу в своем поведении. Назвать ребенка вором — значит сказать неправду, если бы даже он и совершил присвоение чужой вещи. Ведь в случае детского наивного воровства проявляется не злая, а слабая воля ребенка. Он нуждается в помощи взрослых и в помощи своего детского коллектива, а вместо этого его отталкивают и вооружают против него его товарищей. Детское воровство вырастает из неумения подчинить личное поведение нормам коллективной жизни, из недостаточной связи индивидуума с коллективом, из индивидуалистической точки зрения на удовлетворение своих потребностей.
Чтобы искоренить у ребенка наклонность к воровству, надо укрепить его связи с коллективом, усилить его коллективное чувство, пробудить у него общественное сознание и самосознание, поселить в нем веру в самого себя, укрепить его волю.
Разумные родители не только не позорят своего ребенка, но, наоборот, принимают все меры к тому, чтобы помешать разглашению дурной о нем славы, и стараются поскорее забыть о случившемся неприятном факте.
* * *
Создание условий, при которых воровство становится невозможным, рискованным и невыгодным, еще не есть воспитание подлинной честности у детей. О семье, в которой не бывает случаев детского воровства, еще нельзя сказать, что она является образцом воспитания честности у детей: учет, контроль, поиски всякой пропавшей вещи и, наконец, замки не дают случая ребенку посягнуть на общественную или личную собственность. Однако подлинная честность начинается там, где не воруют не потому, что это опасно и невыгодно, а потому, что это порок, что присвоение чужой собственности несовместимо с достоинством, с честью человека. Одним из важных средств, содействующих возникновению, развитию и укреплению у детей принципиально честного отношения к чужой собственности, является устранение запоров и замков, где это только возможно. В семьях, где шкафы, ящики в столах и др. не запираются, для детей больше соблазна, искушений. Но только в таких семьях и вырастают подлинно честные дети.
В одном из детских домов, где детское воровство было довольно распространенным явлением, было предложено снять все замки у дверей детских комнат, шкафов и тумбочек. Все детское добро было вверено честности самих детей. Разумеется, предварительно была проведена работа по закреплению всего имущества за индивидуальными или коллективными его потребителями, а также был введен порядок, согласно которому запрещалось входить в чужую комнату без стука и без разрешения войти. Первоначально сами дети и воспитатели опасались увеличения числа пропаж. Но практика показала обратное: каждый из детей, вынужденный полагаться на честность своих сожителей, и сам почувствовал себя ответственным за сохранность имущества своих сотоварищей.
Первое время пропажи еще случались, но всякий раз они вызывали взрывы негодования, поднимали на ноги весь дом, и всякий раз «потерянные» вещи находились. Не прошло и двух месяцев, как дети привыкли вверять свою собственность честности своих товарищей, открытые двери вошли в быт, и воровство в детском доме совершенно исчезло.