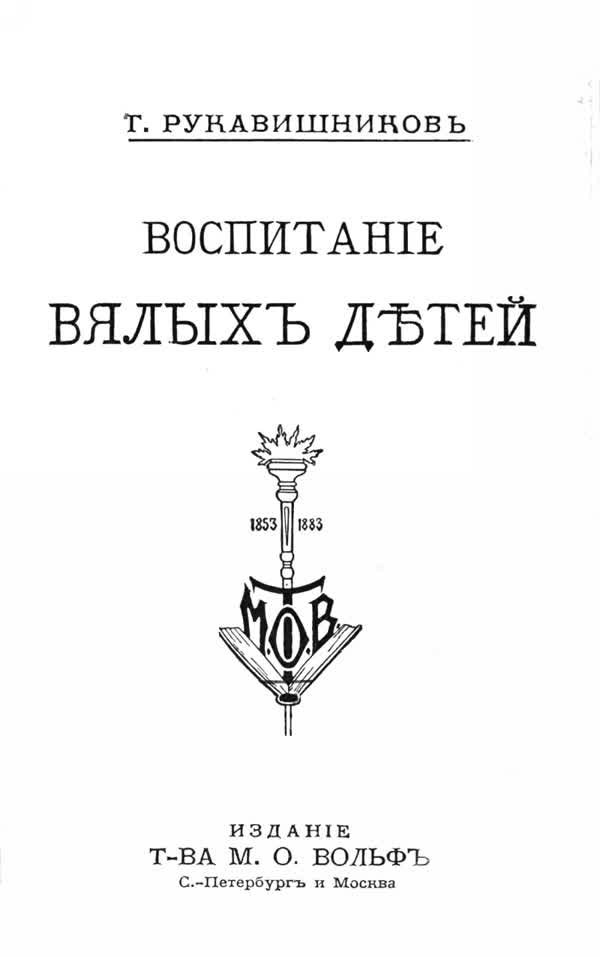
В своем естественном и здоровом состоянии дети всегда жизнерадостны. Постоянная бодрость у них — необходимый результат обильного запаса быстро восстановляющейся энергии. Живя минутой и не размышляя о будущем, они с самозабвением отдаются всякой деятельности, с охотой выполняют всякую предложенную им посильную работу; при гармоническом течении их восприятий и впечатлений они одинаково прилежны и к играм, и к ученью.
Но далеко не многие дети вырастают при условиях постоянного сохранения душевного равновесия. Это равновесие часто нарушается целым рядом причин и органического свойства, присущих телесному сложению ребенка, и внешних, исходящих от окружающей ребенка среды и от условий воспитания. Так, в наше время совсем не редкое явление представляют, например, вялые дети.
Вялость (флегма) обнаруживается понижением деятельности ребенка вследствие притупления его впечатлительности. Такой ребенок обыкновенно выглядит всегда забитым, холодным и равнодушным. Величайшее горе, могущее сколько-нибудь тронуть или взволновать его, это — положение, где он предоставлен самому себе, своим собственным силам, где нет никакой посторонней помощи и заботы о нем. Наедине он скучает и сам никогда неспособен подыскать себе какого-либо занятия или развлечения. Он ко всему апатичен, в нем не чувствуется любви и привязанности, и он, как будто, не имеет никакого понятия о радости и печали. Бледный, со слабыми ногами и медлительной, неуверенной походкой, он напоминает маленького, сильно утомленного жизнью, дряхлого старичка. Усталые, точно всегда заспанные глаза его лишены жизни и блеска, смотрят то безразлично, то угрюмо или уныло и не то ищут чего-то, боятся чего-то, не то вот-вот готовы замкнуться.
Таков общий облик вялого ребенка.
Подобное состояние духа у детей, конечно, не может не привлекать к себе внимания родителей и воспитателей. Но объяснить угнетенное настроение ребенка далеко не всегда удастся правильно. Самые внимательные воспитатели принимают иной раз симптомы детской вялости за постоянное качество характера у данного типа; между тем, такое настроение, вызываемое часто случайными обстоятельствами, может быть временным. Смешение же временного настроения с постоянным явлением характера детской души влечет за собою и нецелесообразные меры лечения, всегда ошибочные и, большею частью, вредные индивидуальности воспитываемого.
Всем известно, как сильно и глубоко действует на общее настроение духа состояние физического здоровья организма. А каким образом развивается и укрепляется, хотя бы, влияние печали в детской душе? Она иногда необычайно быстро охватывает детей, подверженных какой-либо болезни. Они перестают играть, кричать, смеяться, утрачивают живость движений; мускулы шеи ослабевают, и отягченная головка ищет опоры то на плече матери, то у спинки кресла; силы падают, и глаза смотрят без выражения. И с первого взгляда трудно определить причину удрученного настроений ребенка. Но сплошь и рядом это меланхолическое состояние является только результатом обычной усталости, подавленности нервной системы, т. е. часто следствием замедленного питания, низкого давления крови в артериях, слабой жизненности. Тут должны быть ясны и первые способы лечения: питательный режим, предупреждающий отягощение желудка, затем правильный, регулярный образ жизни, спокойствие, методически восстановляющее умственную энергию, целесообразный физический труд, при котором бы ребенок мог извлекать пользу из своих сил и утилизировать свое напряжение.
Точно также бывает часто, что дети, впервые поступающие в школу, сразу попадают в разряд тупых, нерадивых или вялых, хотя эти качества — только следствие сознания нависшего ярма новой обстановки, ежедневного пребывания под бдительным оком чужого и строгого учителя и т. п. И такое настроение особенно легко развивается при нравственной забитости ребенка. Но при этих условиях оно опять-таки только временная физиологическая неизбежность. Не предотвратите ее соответственными приемами ухода за ребенком, — настойчивым, разумным воздействием на психику, последовательным вызовом душевного равновесия, установлением нормального умственного состояния, всегда благосклонным и внимательно-спокойным отношением и проч., — и удрученное настроение может превратиться в постоянную черту подрастающего человека, из состояния временного утомления или подавленности ребенок может перейти к состоянию словно обойденного природою.
Вообще, условий, благоприятствующих развитию детской вялости в современном обществе очень много. Угнетающими моментами являются здесь, быть может, раньше всего постоянная домашняя нужда и недостатки, т. е. непрерывная борьба с экономическими затруднениями. В забитой нуждою семье, где всякие жалобы и выражения недовольства давно уже признаны напрасными, где осталось только одно — безропотность и покорность своей участи, проникаются общим настроением и дети; укреплению этого настроения содействует и систематическое недоедание. И вначале, быть может, крепкий и жизнерадостный ребенок в такой среде мало по малу становится тихим, робким, унылым, пассивным ко всему окружающему, безучастным и к себе, тем более, если располагают к этому и некоторые наследственные черты. При плохом питании энергия развивается мало, ум тупеет, все чувства теряют яркость и резкость выражения, и признаки вялости появляются все па-лицо.
С другой стороны, апатия и умственная вялость могут быть последствием и сильных возбуждений или всегдашних понуканий, которым подвергается ребенок и которые ведут к его угнетению. При работе с постоянным принуждением обыкновенно почти не выясняется ни значение, ни цель ее. А нет ничего убийственнее бесцельной и непонятной для исполнителя деятельности: она становится внешнею, механическою, быстро утомляет и надсажает внимание, понижает впечатлительность.
При этом особенно губительно отзывается на ребенке непосильный и ранний труд, физический и умственный. Механические и психические влияния действуют на детей тем сильнее, чем моложе их организм. И всякое сильное влияние непременно понижает энергию тканей, на которые оно действует, ведет к ослаблению их отправлений, к апатии, к понижению самостоятельной деятельности.
Одинаково подавляюще влияют на нервную систему ребенка и чрезмерные поощрения. Он размягчается, раскисает и вянет, если всякая его деятельность своевременно предупреждается, всегда все для него готово, все сделано, и он никогда не возбуждается к рассуждению и к самостоятельному распоряжению своим временем и своими действиями. Ласки и угода детским чувствованиям, как и бестолковое требование от детей только внешней обрядности, только приличия и манерности, неизбежно усыпляют ум и чувства. Заласканные и беспечные дети, все внимание которых к тому же постоянно обращено только на удовлетворение своих растительных и животных потребностей, очень легко становятся ко всему пресыщенными, пассивными и вялыми. Таковы обыкновенно и бывают, по принятому выражению, все «маменькины сынки», а в учебных заведениях «институтки».
Без пробуждения инициативы, без почина со стороны ребенка не развиваются у него ни наблюдательность, ни опыт жизни, ни уверенность движений; воля парализуется в корне; он отвыкает следить за собою и за своими потребностями; движения его бесцельны и однообразны; сильные раздражения или пугают его, как неопытного, или производят в нем только минутное возбуждение, а при малейшей неприятности он горько плачет и тревожится. Дальнейшее же притупление впечатлительности погружает, наконец, развинченного ребенка в почти непрерывную апатию, делает его вялым, способным только на то, чтобы вынужденно подражать другим в каждом малейшем своем шаге.
Причиной детской вялости может также служить унаследованная ребенком слабость нервно-психической организации (неврастения). Угнетенное состояние духа, быстро наступающая усталость от занятий, общее беспокойство, бессонница, слезливость, как обычные признаки такого болезненного состояния, могут выступить еще ярче, если ребенок проводит время в праздности и ничегонеделании. А на этой почве развивается, наконец, и общее истощение сил, в том числе обнаруживается и вялость.
Лень, трусость и более резкая форма последней — страх тоже нередко развивают вялость в настроении ребенка.
Иной раз полный, краснощекий мальчик, с хорошим аппетитом, с неистощимым запасом веселости и энергии в свободных играх, как только входит в класс, начинает зевать и утрачивает всякую живость и подвижность. Тут, при некоторых симптомах неврастении, обнаруживаются и признаки лени. Лентяй кажется иногда с виду совершенно здоровым, но после какого-либо продолжительного и однообразного занятия глаза его начинают окружаться синевою, лицо бледнеет и вытягивается, и видно, что дело ему в конец надоело, опротивело, и он ждет не дождется, как бы вырваться из этих несносных тисков. После отдыха он оживляется, но это оживление длится лишь до нового приступления к обязательному делу, когда он опять быстро увядает. И часто в подобных случаях причиною лени, является не что иное, как слабость мозговых рефлексов и недостаток жизненных сил. При вялости мозга, замедленном пищеварении и расширении желудка, при вялом сердцебиении и задерживающемся обмене веществ, конечно, ослабевают не только ум, но и весь организм. Дети с таким недугом не могут выносить без усталости самых незначительных прогулок и утомляются от легких игр. А если тут еще пускаются в дело и ласки любвеобильной матери, жалеющей своего ребенка, как неудачника, то в таком случае расслабление его лишь возрастает.
Вывести ребенка из подобного состояния можно только решительной, переменой ухода за ним, да новыми, более целесообразными приемами воспитания. Не наказания, не увеличение уроков, не лишение свободы способны излечить ребенка, поднять в нем пульс жизни, а правильный пищевой и общий гигиенический режим, точное распределение дневной обычной деятельности, сведение всякой физической и умственной работы возможно скорее к привычным, автоматическим действиям, при которых бы он сам без скуки, с возрастающий энергией, с охотою мог преодолевать все трудное и непонятное.
Вообще известно, что действия, вошедшие в привычку, могут быть доведены иногда до страсти, могут стать второю натурою. Приспособившиеся к таким действиям мозг невольно потребует соответственной работы, когда наступит урочный момент. И тогда работа спорится, производительность наша становится наибольшей. И такой именно способ деятельности и должен быть проведен в смысле педагогического воздействия на вялость, обусловленную ленью.
Вместе с отвращением к труду маленькие лентяи обнаруживают иной раз и равнодушие к играм, забавам и удовольствиям. Они расселины, чем-то томятся и ни к чему не чувствуют расположения. Малейшая неудача погружает их в уныние, ничтожная брань огорчает, сомнения в чем-либо приводят их в отчаяние. И ходят они, как в воду опущенные.
Тут требуется слишком много внимания со стороны педагогов, чтобы успешно бороться с подобным настроением детского характера. Правильные физические упражнения, нормированное питание, решительная перемена обстановки, деятельность на открытом воздухе, среди живой природы, и деятельность свободная, увлекательная, разнообразная, — вот простейшие меры воздействия на ослабевшую душу ребенка. И более всего здесь ценна и необходима свобода выбора занятий ребенком. Принуждением неосторожно может быть вызвано разочарование, а следовательно и безуспешность принимаемых мер. Разочарованный вновь погружается в апатию и вялость.
Вредное, угнетающее влияние на детей оказывает и страх. Естественное чувство страха, конечно, присуще всем детям. Но необходимо всегда умерять его силу.
Как выражение человеческого бессилия, страх глубоко подавляет энергию, парализует силы, задерживает все движения и все способности организма. И чем чаще переживаются состояния страха, тем более глубокий след оставляют они в душе ребенка, тем более делают его робким, подозрительным, растерянно озирающимся по сторонам, неспособным взяться за что-либо спокойно и уверенно. И оттого дух оскудевает, силы падают, энергия, наконец, совершенно утрачивается и обнаруживаются все признаки апатии и вялости.
И здесь борьба с угнетенным настроением требует, прежде всего, восстановления и укрепления физических сил ребенка, потому что худосочие, малокровие уже сами по себе могут служить источниками беспричинного страха.
Не так легко, однако, укрепить в характере ребенка самообладание и решительность, как средства, способные одолевать чувство страха. Но ребенок пойдет уже вперед, если он привык к самообладанию в желаниях, если он, напр., способен обождать приема пищи или питья, или же способен довольствоваться тем, что есть, а не требовать, чего сейчас достать нельзя. Ребенок, способный отказаться от какого-нибудь большого удовольствия или готовый взять на себя усиленный труд не в урочное время, в промежуток отдыха, владеет уже значительно сильной способностью самообладания, он легче справится и с чувством страха, не поддастся ему сразу и всецело. Далее, ребенок должен быть, вообще, полным господином своих действий. Он должен выполнять все сам, сам начинать и кончать, сам устранять на своем пути затруднения. И плохо ли, хорошо ли выйдет это господство, — в посторонней помощи ребенок не должен нуждаться. Всегда необходимо идти навстречу свободе и независимости детей, как условиям, укрепляющим их волю. А мужество и доверие к своим собственным силам дают основу и твердому, самостоятельному характеру.
Заботы об укреплении в душе ребенка этих качеств характера, конечно, должны быть поведены еще с первых лет детской жизни, когда ребенок только что начинает приспособлять свои движения к окружающей среде, ориентируясь в пространстве и времени.
Но тут нужно заметить, что в ранние годы своего развития ребенок может гораздо легче и продуктивнее осуществлять свои внешние хотения, нежели внутренние. Внутреннее хотение выражается наблюдением с определенной целью, в виде воли, направляющей представления, в виде закрепления представлений посредством внимания, планомерного и намеренного направления фантазии, размышления и обдумывания с известной целью, припоминания ранее пережитого и т. п. Вся эта область воли только позднее становится достоянием детского духа. Напротив, вся область внешних хотений доступна ему уже с первого пробуждения элементарных явлений воли. Управление движениями членов и туловища, часть движений, служащих для выражения чувств, движения при произнесении слов, разнообразная мускульная деятельность во время игр, при первых опытах графического выражения мыслей, при обучении всякой ручной работе, — все это внешние волевые действия, протекающие в форме двигательных процессов.
В этом отношении именно и известно, что успешное развитие воли у детей обозначается прежде всего ловкостью в движении рук, отчетливой речью, правильной ходьбой и достаточной силой внимания. Напротив, неуклюжесть движений ребенка, рассеянность и плохо развитая речь указывают на слабое состояние воли. Наиболее же верными признаками успешно зреющей воли могут всегда служить спокойствие ребенка, медленно, но в точности, совершаемые им движения и постоянная его занятость чем-нибудь. Эта живая и подвижная деятельность ребенка поддерживает непрерывное и бодрое напряжение мышц, которое и является истинной почвой для развития внимания, для выработки устойчивости воли.
Предоставляя ребенку достаточную свободу действий, поощряя в нем бодрость и силу, мы тем самым сообщаем его организму свежесть, энергию, сознание собственной мощи; его живое чувство будет всегда напоминать ему об этом и возбуждать в нем инстинктивную потребность применения своих сил к действию, превращения их в движение, чтобы реализировать напряжение, переполняющее душу. Только этим путем и воспитается наклонность к деятельной жизни, и в будущем такая жизнь может стать прочной привычкой и неотразимой потребностью.
В такого рода уходе особенно нуждаются дети, отличающиеся чрезвычайной слабостью воли, очень малой способностью к сосредоточению беспорядочностью своей душевной жизни. Они часто только и могут сделаться доступными для воспитательного воздействия благодаря развитию у них сознательных, намеренно выполняемых движений, т. е. внешней дисциплинированности в положении тела, управлений обоими движениями или возбуждения психической энергии через посредство гимнастики, игр и ручных работ. И именно эти последние дают случай не только прекрасно развить умственные способности детей, но и воспитать в детях такие качества воли, как точность, тщательность, добросовестность, настойчивость, последовательность и вообще привычку к постоянной деятельной жизни.
Разумеется, при всяких ручных работах и прочих занятиях с детьми надо всегда иметь в виду, что ребенок утомляется скорее взрослого, и утомляемость эта тем больше, чем моложе он. Но большей утомляемости ребенка соответствует, — вероятно, как некоторое естественное средство охраны, — и его способность к более быстрому восстановлению сил.
Все такие особенности детского организма, как недостаток устойчивости и равномерности внимания, его расплывающийся и динамический характер, большая утомляемость и способность к быстрому восстановлению сил, указывают на одну общую основу, — на большую слабость и неустойчивость органических процессов, прямо и косвенно участвующих во всякой психической работе. Потому воспитатель должен неизменно следить за тем, чтобы не перейти меру в сознательных упражнениях и работах детей и чтобы благотворное влияние их не разрушалось внезапно наступающим утомлением, неизбежно располагающим к апатии, вялости, скуке и лени.
Предупреждение утомления и сильных болевых ощущений у ребенка уже само по себе имеет важное педагогическое значение. Известно, что чувство робости и страха пробуждается тем скорее, чем чаще испытывал ребенок боли и страдания разного рода. Страдание расслабляет и убивает силу. Ожидание страдания есть уже страх. Потому вообще следует охранять ребенка от страданий. Ознакомиться с ними, пережить их он должен возможно позднее и в наиболее слабой степени. При этом условии и страх, и робость, и трусливое, нерешительное отношение к делу меньше найдут себе пищи в детской психике, ослабеет и их напряженность. Уменьшению же страданий ребенка могут способствовать только разумные приемы воспитания, т. е. гигиеническая обстановка, совершенное устранение наказаний и всяких мер взыскания, предупреждение всевозможных суеверных и фантастических ужасов, проникающих в сознание ребенка из книг, разговоров и проч.
Конечно, существует не мало и таких страданий, которые неустранимы человеческими усилиями. Но своевременные меры к предупреждению беды уменьшают уже ее величину, замедляют ее наступление, направляют ее в менее опасную сторону, а настороженное напряжение сил скорее залечивает пережитое страдание, как и предохраняет от него в будущем. Ребенок и должен убедиться во всем этом на деле, — своем ли, других ли. Опыт и наблюдение покажут и научат его, что надо копить силу, никогда не падать духом и не отказываться от борьбы.
В воспитании этой волевой способности особенное значение приобретает, конечно, влияние заразительности примера, внушаемости его. Неустойчивое и подверженное колебаниям чувство ребенка всегда легко поддается внушению. Часто дети делаются больными или здоровыми, веселыми или подавленными, энергическими или безвольными только вследствие того, что они были перенесены в другую обстановку. На настроение ребенка неотразимо влияет дух родительского дома и школы, товарищи по играм и школьные, даже простое пребывание в классной комнате, надзор и прочие отношения учителя и т. п. Подверженность детской воли внушению определяет и возможное направление этой самой воли. Желания ребенка определяются как внешними обстоятельствами, условиями, в которых он живет, играет, работает, так и людьми, намеренно или ненамеренно влияющими на него, а также и отдельными воздействиями, — вопросом, взглядом, движением (хотя с флегматиками дело внушения дается труднее). И важным педагогическим требованием является здесь усиление способности ребенка к сопротивлению вредным внушениям и изощрение его суждения по отношению к сильным жизненным воздействиям. Главным средством к этому служить опять-таки увеличение в ребенке его доверия к самому себе.
Самым верным и прочным приобретением в жизни ребенка становится однако только такое качество воли, которое получено путем упражнения и самодеятельности. А этот способ возможно провести как в школьной, так и в домашней жизни детей. Всякая задача, всякий урок могут быть использованы для того, чтобы усилить в ребенке сознание долга, и все домашние и классные работы, при которых ребенок не подвергается непосредственному контролю, являются хорошим средством возбуждения в нем самоконтролирования и самоопределения. Выполнение каждой работы дает ребенку толчок к развитию аккуратности, добросовестности, честности. При этом единственными побудителями его к деятельности должны быть удовольствие, ощущаемое им при занятиях, живой интерес к делу и стремление усвоить себе знание и понимание наблюдаемых им явлений. И всякая работа, соответствующая силам к пониманию или степени развития, непременно доставит ребенку удовольствие, которое еще увеличится, если он приступает к делу по собственному побуждению и достигает желанного результата. Испытываемое при этом удовольствие так велико, что оно побуждает ребенка к дальнейшей деятельности и является само по себе естественным возбуждением, к которому нет нужды прибавлять никаких новых раздражителей в виде похвалы, отличия или награждения.
Вообще говоря, в воспитании вялого ребенка основная задача ухода заключается в том, чтобы пробудить в воспитываемом внутренний позыв к активной деятельности, чтобы заинтриговать его самым процессом занятия. И это потому, что такой ребенок менее всего способен быть внимательным намеренно, тогда как известная прелесть или интерес могут скорее привлечь его к предмету его занятий, тем более, если для возбуждения интереса вызваны у ребенка в некоторой степени выразительные движения внимания. Известное поощрение к экспрессивным движениям у вялых детей всегда целесообразно: благодаря двигательным выразительным процессам, прежде всего повышается возбудимость двигательных центров, которая затем распространяется и на весь мозг. А раз эта важнейшая цель воздействия достигнута, — усилия воспитателя должны быть обращены на более продолжительное поддержание внимания ребенка, на нормирование его деятельности и на правильную смену ее отдыхом, главным же образом на то, чтобы целесообразные движения ребенка свести на привычные, автоматические.
Но во всяком случае приемы ухода за вялыми детьми должны всегда сообразоваться с тем, каковы самые причины детской вялости, — физического ли они свойства или же психического. В первом случае могут потребоваться соответственные способы лечения и проведение гигиенического режима, а во втором — может иногда оказаться достаточной уже одна перемена обстановки или предоставление ребенку возможно большей свободы действий.