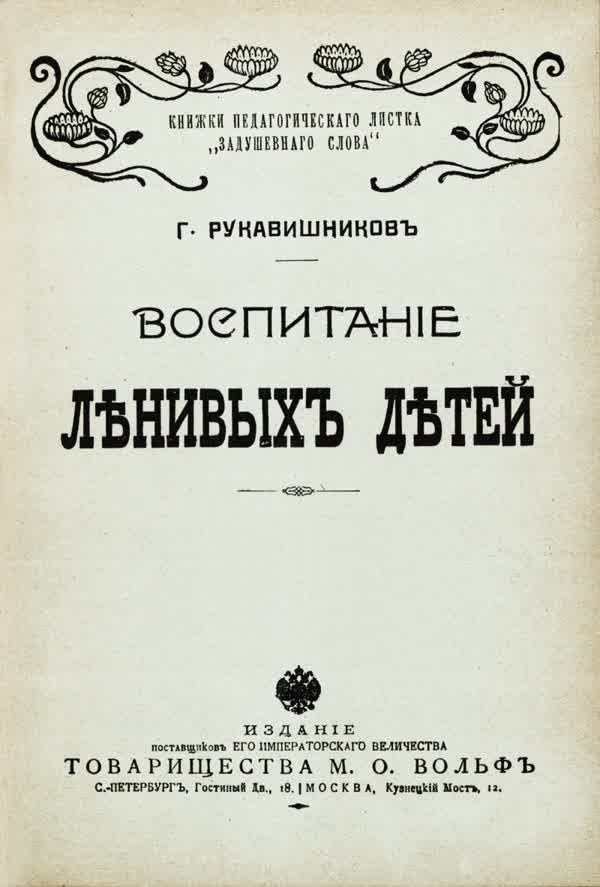
Лень — что она такое: болезнь, которую надо лечить, порок, который надо исправлять, или врожденный недостаток, которого никакими средствами устранить нельзя?
Этот вопрос за последнее время стал очень сильно занимать и педагогов, и врачей, и всех тех родителей, которые внимательно следят за ходом образования детей. Между тем педагогическая литература весьма бедна по данному вопросу не существует ни одного, сколько-нибудь достойного внимания серьезного труда, который давал бы обоснованный ответ на упомянутый выше вопрос.
Из тех немногих специалистов, педагогов и врачей, которые занялись вопросом о лени — одни видят в лени лишь последствие слабой воли; другие — прямо считают лень болезнью; приверженцы старой педагогии все еще признают лень пороком, который необходимо искоренять строгими мерами.
Появившиеся за последнее время специальные труды о лени — д-ра Флери, который видит в лени болезнь, Пэйо, который рассматривает лень, как один из признаков слабой воли, Нуссбаума, который считает лень одною из сторон характера, — все они останавливаются только на лени взрослых людей и имеют в виду застаревшие формы лени, с которыми очень трудно бороться. При этом труды названных авторов скорее красноречивы, чем убедительны. О лени детей и об искоренении ее — научного исследования мы не знаем.
Лень детей, специально учащихся детей, имеет мало общего с ленью взрослых, с тою «обломовщиною», которой подвержены иные люди. Пэйо, в своем ценном труде «Воспитание воли», считает лень у взрослых очень распространенною. «Почти все наши неудачи, почти все наши беды — пишет он — сводятся к одной причине, и причина эта — слабость нашей воли, страх перед всяким усилием, в особенности перед усилием продолжительным. Наша пассивность, наша легковесность, наша разбросанность, — все это лишь разные названия для обозначения той закваски общераспространенной лени, которая для человеческой натуры есть то же, что тяжесть для тела». Автор этих слов все свое внимание сосредоточивает на том, чтобы возможно яснее изобразить план борьбы с безволием. Современная жизнь требует громадного подъема сил, великого напряжения энергии. А молодежь, новые представители этой жизни в большинстве случаев обнаруживают как раз обратное: слабость характера, бессилие воли, физическую, умственную и нравственную лень.
Многие сваливают причину лени на школу и на неумелое первоначальное воспитание, которое не обращает достаточного внимания на физическое развитие детей, которое является главною основою правильного, нормального хода учения.
Другие находят, что лень развивается у детей только тогда, когда их не умеют заинтересовать изучаемым предметом. Действительно, любовь к известной деятельности чрезвычайно облегчает нам выполнение ее; на любимом труде мы гораздо дольше можем сосредоточивать свое внимание; такой труд радует нас, другими словами, — повышает пульс нашей жизни; мы меньше устаем, меньше нуждаемся в отдыхе; труд всецело захватывает нас; мы забываем всякую мысль о dolce far niente. Ускоренное дыхание, быстрый обмен веществ, новый прилив энергии помимо нашего сознания восстановляют затраты организма.
Подобное явление мы замечаем в деятельности и взрослых, и детей.
Здоровые дети всегда бывают внимательны и прилежны, — поскольку это свойственно им, — если то дело, которым они занимаются, интересует их. Но как скоро интерес к делу пропадает, — рассеивается и внимание; труд становится невыносимо однообразным; наступает скука и неизбежное последствие ее — лень. Но в то время, как у взрослых лень выражается апатией, вялостью, ничегонеделанем, — у детей она обнаруживается только нежеланием делать то, что им не по душе, что наскучило, что не доставляет им удовольствия. Бросая одно, они занимаются другим, готовы взять третье, они не могут оставаться в бездействии. Повышенная деятельность сердца, усиленное питание, быстрое накопление энергии невольно понуждают их к постоянному движению. И в этом отношении здоровые дети не знают лени, как бездействия. Но, с другой стороны, они неспособны к продолжительному сосредоточению внимания на одном предмете: это утомляет их еще не вполне развитые органы. И потому, было бы заблуждением принуждать детей к выполнению таких обязанностей, которые требуют долгого и напряженного внимания. Подобное насилие может сделать все, что угодно, только не сохранить детей здоровыми.
Следовало бы сказать относительно здоровых детей и, притом, поставленных в благоприятные условия жизни: laissez faire, laissez passer. Не вмешивайтесь в их интересы со своими, предоставьте их свободному развитию, отворите перед ними двери ко всему лучшему, но не вашему только, а вообще лучшему! По выражению одного индийского поэта-пария, «самолюбие родителей должно состоять в том, чтобы видеть своих детей более знающими и более мудрыми, чем они сами».
Однако, большинство наших детей рождается далеко не в полном здоровье. Если же прирожденные задатки и хороши, так окружающая жизнь нередко успевает слишком рано надломить их, а то и совсем уничтожить. Бывает и еще хуже: отняв или заглушив все лучшее, все, что ценно и необходимо для жизни, воспитывают в несчастных жертвах, — конечно, по неведению, — только дурные инстинкты, только патологические наклонности. Так выходят из рук неудачных воспитателей и те весьма распространенные типы детей, которых называют и дома, и в школе лентяями.
Как замечено выше, дети, не страдающие прирожденной вялостью (атонией), уже физиологически, по самой своей природе, склонны к непрерывной в течение дня подвижности. Постоянно накопляющаяся в тканях тела энергия беспокоит их (детей), мешает им долго останавливаться или задумываться над чем-либо. Это — совершенно нормальное явление. Но позднее оно же может послужить благоприятною почвою для развития лени.
Ребенок только то награждает более или менее устойчивым вниманием, что особенно интересует его, что предпочтительно соответствует его наклонностям. Продолжая поступать так, он, мало по малу, изощряет свой вкус; находя нечто излюбленное для себя, он привыкает все более, все чаще интересоваться этим, т.-е., так сказать, сгущает свое непроизвольное внимание и постепенно делает его сознательным, благодаря чему путем усилий совершенствует и свою волю.
Но представьте, что воспитатели или родители вмешались в этот процесс свободного развития ребенка; тот предмет или то явление, какими он естественно интересовался, они неосторожно заслонили своими искусственными приманками; в поле его зрения они ввели ряд новых предметов или явлений и соблазнили его увлечься ими. Что тогда произойдет? Ребенок прежде всего лишается того центра, который служил раньше незаметною опорою зародившейся и растущей воли. Волна новых, сознательно воспринимаемых впечатлений может окончательно «смыть» осадки прежних, невольных впечатлений. Не владея силою закрепить в сознании все это неожиданно-новое, ребенок останавливается только на частностях, на любопытной внешности. И чем больше пробегает перед его слабым вниманием оригинальных и все новых и новых картин, тем меньше и меньше начинает он интересоваться внутренним содержанием их. Однако, быстрая смена впечатлений увлекает его; разнообразие нравится ему; он скоро привыкает, именно, к этому разнообразию, просит его, требует его, испытывает неодолимую потребность в нем, короче говоря, он становится эксцентричным, утрачивает способность к дальнейшему развитию внимания. И после этого, понятно, всякая однообразная работа должна нагонять на него скуку; он отказывается от такой работы; ему лень выполнять ее. Он делает и то, и се, пятое — десятое, но, в сущности, ничего не делает, а просто старается как-нибудь убить время, скучное, по-черепашьи ползущее время.
Так легкомысленные приемы воспитания, преждевременное навязывание детскому уму того, в чем он еще не нуждается и чего не может усвоить, сплошь и рядом влекут за собой непоправимое уродство юной души. И когда в домашней жизни, а позднее в школе резко обнаружится у ребенка подобный недостаток — отсутствие внимания, равнодушие к урокам и к выполнению всех прочих обязанностей, — не школа, но родители, конечно, вынуждены бывают приступить к борьбе с безволием и индифферентностью своей жертвы. Наша школа неспособна одолеть легкомыслие ученика. Для нее такой ученик не годен, а для своих товарищей по школе опасен. И рано или поздно школа выбрасывает его. Но что же могут сделать родители или специальный воспитатель?
До сих пор педагогия не обладает средствами бороться с легкомыслием детей. И каждый шаг в этом направлении — новый, искусственный шаг, могущий, при случае, дать какие-либо плоды и не дать. Поэтому, не столько на педагогическое искусство, сколько на природу приходится возлагать здесь надежды.
Легкомысленный тип напоминает собою по уму тот ранний возраст, когда внимание слабо развито и нет преобладающих склонностей к чему-либо: он на все смотрит одинаковыми глазами; для него все любопытно, что ново, и все новое для него скоро стареет, делается надоедливым, так как он интересуется лишь наружностью, влияющей непосредственно на чувства. Вследствие этого, многообразие городской жизни, масса всегда новых впечатлений отнимают так много энергии у слабовольного, что после дневной сутолоки он испытывает только усталость и спутанность мыслей, И чтобы избежать этого, необходимо удалить больного от городского шума, лишить его этого разнообразия. Уменьшая количество впечатлений, мы тем самым увеличим интенсивность их. Ребенок видит немногое, но много: получает возможность глубже взглянуть на вещи, дольше заинтересоваться ими. Но и здесь, вдали от города, только опытный воспитатель может уловить то, что более всего интересует ребенка или производит на него особенное впечатление. Раз это удалось, — дальнейшее развитие внимания ребенка всецело почти зависит от уменья воспитателя, от его примеров и действий.
Постепенно задерживая внимание ребенка на тех или других интересующих его явлениях, открывая перед ним новые и новые стороны этих явлений, побуждая его не только рассматривать и понимать эти явления, но и стремиться к достижению какого-либо успеха, какого-либо личного торжества перед этими явлениями и т. п., таким путем можно пробудить в его сознании и новые вопросы, и самостоятельное желание разрешить их, и наслаждение удачею, и горе от неудачи, вообще, можно вызвать в нем те порывы к сосредоточенной деятельности, которые станут опорою его самостоятельности, его индивидуальных стремлений...
Мы сказали: «горе от неудачи». Надо заметить, что в воспитании меньше всего желательны устранение ребенка от всяких волнений, от малейшего недовольства, предупреждение всех его желаний, поощрение его бесплодных наклонностей и т. п. Не в таких условиях вырабатывается сильный, энергичный характер. Такие условия лишь ослабляют волю. К неудачам жизни, неизбежным, естественным, надо привыкнуть. Перед всяким горем надо быть непреклонно-стойким. А между тем, сколько в жизни таких несчастных, безвольных, которых обессиливает первая неудача, которых сбивает с толку ничтожное, по существу, горе! Это — не жертвы жизни, это — жертвы дурного воспитания.
Детей иногда по ошибке называют ленивыми: они не ленивы, а слабовольны. С раннего детства они не ведали горя; выпадавшие на их долю радости без труда, без всяких усилий доставались им. Их вечно лелеяли, с ними постоянно тешились, их всегда занимали няньки и родители. На них, как на кумиров, почти молились. С ними делали все, чтобы только уничтожить в них зародыши личности, воли и характера. Забавные игрушки воспитателей! Из таких живых игрушек выходят, правда, очень редко, милые люди, — нежные, добродушные, чувствительные, но всегда бессильные и нравственно, и умственно. Их добродетели не идут дальше пустых слов. Их дела... Обыкновенно, они — «не у дел». Само дело не навязывается к ним, а они собственными усилиями не могут взять его: не подойти им к нему. И остаются они за флагом, бездействуют, скучают, но не по лени, а от слабости воли. Это — болезнь, с которою всего труднее бороться в детском возрасте. Такие дети всегда нуждаются в опекуне, в помочах и неспособны предпринять ничего своими силами. Школа для них — ужасная мука. Никакой учитель, никакие убеждения или поощрения не действуют на них. Быть может, только резкая перемена домашней жизни в состоянии вызвать их на какой-либо смелый шаг. Но будет ли он продолжителен?
Безвольные дети лишены самолюбия, этого первого источника воли. Но развить чувство самолюбия гораздо легче, чем волю. И попытайтесь это сделать. Например, дети от природы склонны к зависти. И если слабовольный ребенок видит подле себя другого, сильного, энергичного, предприимчивого, к которому относятся с чрезвычайным вниманиям, которым все гордятся, его же, слабовольного, напротив, как будто и не замечают или дают ему понять всю его слабость, весь резкий контраст между ним и тем, сильным, настойчивым характером, если все это заметит слабовольный, то он, несомненно, будет огорчен; в нем проснется зависть, — возникнет элемент самолюбия. Далее, все дети подражательны. И если слабовольный ребенок будет видеть кругом себя людей самостоятельных, настойчивых в своих требованиях, строгих к своим словам, решительных и ничем не поступающихся и т. д., то невольно и он сам, мало по малу, усвоит подобные же черты характера. Эти черты, быть может, не укрепят еще его волю, но за то они разовьют в нем самолюбие: он будет понимать, — что значит «оскорбленное самолюбие», он уже из одного только подражания другим привыкнет к тому, чего он очевидец. Обратите, наконец, на него самого требования исполнительности во всем; пусть это будут маленькие, легкие, пока, требования, но они должны выполняться точно, аккуратно и до конца. При всем том, внушайте ему постоянно, неуклонно, прямо и косвенно, сознательно для него и бессознательно, внушайте все достоинства человека: свободу, правдивость, верность слову, чистоту намерений, честность отношений, искренность и т. п., внушайте и примером, простым до наглядности, и горячим словом, и, главное, собственными своими поступками. И этот путь не скоро, но несомненно приведет к тому, что в слабовольном ребенке разовьется чутье ко всему лучшему и, в то же время, сознание контраста этому. Привычка к тому, что окружало и окружает его, невольно будет заставлять ребенка искать одного и уклоняться от другого, радоваться одному и возмущаться другим. Все его чувствования найдут здесь себе прекрасную пищу. А развитие эмоций воздействует и на укрепление воли.
Встречаются, однако, случаи, когда дети обнаруживают лень и при достаточно сильной воле. Этот тип лентяев создается нередко однообразием нашей современной школы, где ученик не имеет возможности проявить свою индивидуальность, а применяться к окружающему не хочет или же сил для того недостает ему. Но у него есть и способности, и порядочная память, и даже настойчивое желание заниматься, только не тем делом, к которому его приставили, напр., не школьными уроками. Эти уроки невыносимы для него. Всеми средствами он пытается избавить себя от нелюбимых занятий, а если еще и исполняет их, то через неволю, с тоскливым чувством, с неприязнью. И в то же время он отдается с особенным удовольствием тому, что ему нравится. Он или усиленно читает посторонние книги, или же с увлечением посвящает свои свободные часы ремеслам, — столярному, токарному, переплетному и др., ходит в лес, в деревне с большой охотою занимается всевозможными работами, однообразными и тяжелыми, словом, Иногда он готов делать все, что угодно, лишь бы избавиться от школьной скуки. Ему, именно, скучны школьные занятия. И вина в этом падает на домашнюю жизнь: родители, очевидно, не сумели его с раннего детства подготовить к тем обязанностям, которые возложила на него школа. С другой стороны, быть может, такой ребенок и не родился для школы: ему тесно в четырех стенах, он ищет независимости, ему нравится подвижная деятельность, труд иного рода. И если его склонность не удовлетворяется, то едва ли можно овладеть его вниманием по отношению к тому, чего он не любит. Предоставьте ему делать то, что он хочет. Но в этой области окружите его вниманием. Лучше быть хорошим сапожником, чем плохим художником. И несомненно, что в своем излюбленном занятии, отвечающем наклонностям ребенка, он пойдет вперед гораздо быстрее. Искусство же воспитателя при этом должно состоять в том, чтобы возможно глубже захватить ребенка интересующим его делом, чтобы сосредоточить на этом деле все его внимание, чтобы развернуть перед ним все стороны, все детали этого дела, главное же, чтобы установить постепенно тесную связь этого дела с тем, которое раньше было так неприятно ребенку. И если только эта связь установлена, — ребенок сам невольно возьмется за новое уже для него занятие, и потому лишь, что увидит его необходимость, убедится в важности его для своей родной деятельности, для усовершенствования ее.
Очень много встречается детей, вообще, трудных в воспитательном отношении, обыкновенно же, крайне неразвитых для своего возраста. Ошибочно их всегда почти называют ленивыми. На них возводят клевету, будто они не занимаются делом или плохо занимаются потому лишь, что не хотят. В действительности же, они не могут заниматься.
Некоторые родители спешат посадить детей за букварь, едва только они успеют выйти из пеленок. С трех, с четырех лет начинается систематическое притупление и без того еще слабой чувствительности ребенка. Пестрота городской жизни действует в том же духе. Среда, окружающая ребенка, искусственность во всем, многообразие бессмысленных игрушек, ненужные обычаи и неуместные, несвоевременные приличия и, наконец, толпа, шум, грохот, все это — ужасные тиски для слабого ума ребенка и для его эмоционального развития.
Такими условиями неизбежно создаются хилость организации, рассеянность, болтливость, а за ними и отупение. В таких условиях находят себе пищу все врожденные недостатки, развиваются нервные болезни. Такие условия понижают все функции организма, удручают сознание и лишают ребенка всего, что связано с жизнерадостностью, с свободным выражением чувств.
Продуктами таких условий являются и дети с запоздалым умственным развитием. Они неспособны выполнять ничего по своему возрасту. Они отстали. Они не в состоянии понять того, что совершенно очевидно для более развитых товарищей их. Все школьные занятия им не под-силу, не по уму. И если они, вследствие этого, ни в чем не успевают, если они, выбившись скоро из сил, бросают школьные занятия, — можно ли назвать их ленивыми?
Хотя современная жизнь и заставляет торопиться, но подобных детей нельзя гнать в ряду с другими. Они нуждаются в особом уходе, пригодном только для них. У нас нет специальных школ, где могли бы обучаться отсталые умственно дети. И для них остается один путь, — домашнее образование, именно, образование, а не только обучение. При разумной системе общего воспитания и при коренной перемене условий жизни — о чем говорено выше, — мало по малу, можно всегда довести таких детей до уровня средних способностей.
В борьбе с ленью и неразвитостью детей, конечно, важное значение имеет гигиена. В здоровом теле и здоровый ум. И если, например, слабосильного, истощенного субъекта не считают здоровым, то, с другой стороны, часто оправдывается в жизни выражение, что «мудрость не обитает в тучном или заспанном теле». Толстые и дородные дети ничем не порадуют нас, кроме разве сонного, апатичного добродушие. Обыкновенно, это — умственно отсталые дети. Быть может, они и способны к развитию, но тяжелое тело угнетает дух: им трудно заниматься чем-нибудь подолгу, они скоро устают. И в лечении таких больных, как известно, образ жизни, система питания, физические упражнения играют важнейшую роль. Но тот же самый физиологический режим должен быть целесообразно применяем и ко всем детям, тем более, что нередко все формы душевной слабости вызываются чисто соматическими причинами, напр., желудочными расстройствами, болезнями или аномалиями половой сферы, недостатком или избытком сна, усталостью всякого рода, вообще, всем, что так или иначе нарушает органическое равновесие.
Внимание и усилия воспитателей, главным образом, и должны быть обращены на то, чтобы развитие всех сторон детской натуры шло без замедлений, без ускорений, без аномалий, в полной гармонии составляющих организм частей. Несоблюдение этого важнейшего условия и вызывает у детей все те уклонения от нормального развития, о которых говорено было выше.
На обязанности родителей лежит великая забота о том, чтобы дети их стали полезными членами общества. Лентяй — паразит общества. И хотя, по природе, ленивых детей нет, однако, все дети рано или поздно могут развить в себе этот общественный порок. Своевременно предупреждать его развитие, а если он уже возник, то энергично бороться с ним, разве это — не столь же великая обязанность родителей?