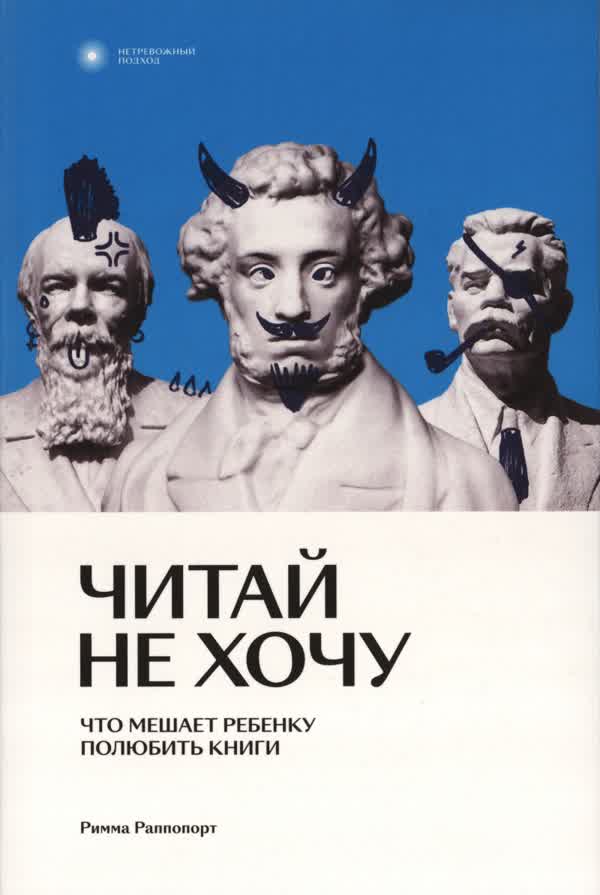
Как помочь ребенку?
Приемы родителей
Помочь детям стать активными читателями гораздо сложнее, чем раз и навсегда привить отвращение к литературе. И все же ничего невозможного в том, чтобы наладить отношения ребенка с книгами, нет. Я уже говорила, что мои родители не только ошибались, беспокоясь о читательском будущем дочерей. Да и мы с мужем после нашего первого провала кое-чему научились. Во всяком случае, теперь не мы умоляем Лию послушать на ночь книжку, а она нас — почитать ей. Сложив свой детский опыт чтения с материнским опытом воспитания читателя, я составила список работающих приемов. В ходе его составления ни один ребенок не возненавидел чтение.
Семейное чтение
Чтобы ребенок без проблем зачитал, его должны окружать книги и читающие родственники. Когда я еще не умела читать, у меня всегда были для этого взрослые. Папа принимал в ритуальном чтении вслух мало участия. Разве что, когда перед сном читала мама, приходил, брал книгу и начинал забавно перевирать написанное. Я веселилась и злилась одновременно. Но чаще всего читала бабушка. И это было идеально. Она читала мне в основном детскую классику. Лучше всего я запомнила «Пеппи Длинныйчулок». Сама бабушка была всеядным читателем и вообще не страдала снобизмом. Так что читала она просто, смеялась вместе со мной, но могла и заснуть на середине страницы. Кроме того, бабушка проводила со мной больше всего времени и, главное, принимала меня такой, какая я есть. Честно говоря, в рейтинге взрослых она без особой конкуренции занимала первую строчку.
Когда ты маленький и тебе читает самый близкий человек, это как минимум остается ценным воспоминанием о детстве и повышает шансы полюбить чтение хотя бы как форму ностальгии. Была и другая бабушка, отношения с которой совсем не складывались. Единственное, что мне в пять лет доставляло удовольствие в ее обществе, — слушать, как она раз за разом читает одну и ту же книгу об ивритском алфавите. Собственно, пять мне и было, когда эта бабушка умерла. Я запомнила отголоски скандалов, детское чувство вины за то, что родная бабушка вызывает раздражение, день ее смерти и то, как она безропотно соглашалась снова прочитать полюбившуюся мне книгу. Мне важно и дорого, что среди непростых воспоминаний нашлось место для чего-то светлого и это именно воспоминание о чтении.
Читать сто раз подряд — скорбный удел взрослых. Это надо принять. Признаюсь, я не всегда готова на подвиг. Я не против каждый день возвращаться к небольшой детской книге какого-нибудь симпатичного современного издательства. Допустим, на «Трех разбойников» Томи Унгерера душевных сил у меня хватает всегда, это каждый раз одинаково весело и мило. Но перечитывать только что законченную главу книги побольше я не в состоянии, каким бы мощным ни было стремление вырастить читателя. Когда я снова и снова слышу от Лии: «А давай сказку „Про все сразу“», то считаю эту просьбу кармическим возмездием за сказку об ивритском алфавите.
Хорошая детская литература многослойна: она адресована детям, но интересна и взрослым. Поэтому ролью чтеца можно воспользоваться, чтобы заново познакомиться с дорогими книгами из своего детства. Время открыть для себя политический подтекст «Чиполлино», найти в «Незнайке» отсылки к «Ревизору», разглядеть в Карлсоне трикстера, а в Пеппи — пример girl power. Еще, читая детям, можно наверстать собственные литературные пробелы. Так, в детстве я обожала книги Астрид Линдгрен, но многие из них почему-то прошли мимо меня, видимо, оказавшись за пределами внимания бабушки. Я с огромным удовольствием читала дочери то, что когда-то не прочитали мне, а параллельно изучала биографию Линдгрен, ее многолетнюю переписку с девочкой-подростком («Ваши письма я храню под матрасом») и знаменитую речь «Нет насилию», к сожалению, до сих пор актуальную в мире, где с завидным постоянством звучит псевдоаргумент «меня били, и ничего».
Чтение — это отношения, отношения между читающими, поэтому так важно читать вслух, почти так же важно, как разговаривать. Чтение вместе — общее пространство безопасности и защищенности; об этом говорят дети, которым повезло: в их семьях находят время и место для чтения вслух. И мы много читаем на уроке вслух и говорим о том, что звучит и оживает перед нами.
Марина Анатольевна Павлова, Москва, стаж преподавания 30 лет
Своя библиотека для маленьких
Лучше всего выделить персональное место для детской библиотеки, чтобы пяти-шестилетнему человеку не составляло труда дотянуться до собственных книг. Это может быть отдельная коробка, низко расположенная полка в общем шкафу или небольшой стеллаж. Зона самостоятельности, личное пространство уже важны в дошкольном возрасте, несмотря на то что большую часть времени ребенок, скорее всего, предпочитает проводить у вас на голове. Мы купили дочери кровать-чердак и обустроили нижний ярус как секретный домик, куда и перенесли большинство ее книг. До избы-читальни не дотянули: все равно читаем в нашей постели, — но само ощущение, что чтение теперь стало территорией выбора Лии и ее желания, явно греет огромное это маленького человека. Недавно Лия затеяла вместе с бабушкой уборку в детской, заодно они устроили перестановку в подкроватной библиотеке. Выяснилось, что у ребенка есть любимые книги, которые надо поставить поближе, чтобы их было удобнее доставать. Думаю, подобный опыт чрезвычайно полезен: Лия почувствовала себя хозяйкой своих книг — взрослым человеком и осознанным читателем.
Библиотека с тайной для детей постарше
Когда я была маленькой, у нас была потрясающая домашняя библиотека. Меня всегда поражало, что кто-то из одноклассников берет книги в школе. Ни разу за десять лет в программе по литературе не нашлось произведения, которого бы у нас не было. Количество книг в квартире родителей до сих пор вызывает у меня чувство стыда и ощущение собственного ничтожества не столько перед величием, сколько перед неисчислимостью мировой литературы.
В моей комнате стоял отдельный шкаф с детскими книгами. Особенно мне нравилось тянуться, вставая на стул, к верхней полке. То есть была некая иллюзия труднодоступности, и она меня отдельно мотивировала. Но еще больше мне нравилась та часть библиотеки, которая хранилась в магической «маленькой комнате» — из-за протечек, потолка, грозившего в любой момент рухнуть, и хлама жить в ней было опасно. Ничто в квартире не вызывало у меня такого интереса, как «маленькая комната». Я предпочитала проникать в нее тайком. Кажется, эти вылазки не поощрялись родителями, потому что в комнате стояла жуткая холодина. Отдельным приключением было включить свет. До тумблера надо было еще допрыгнуть, к тому же он был старым и какой-то неудобной формы, так что с первого раза зажечь свет не удавалось. Приходилось некоторое время подпрыгивать в темной, холодной запретной комнате. В ближайшем доступе оказывались только два шкафа, добраться до остальных, еще и незамеченной, было настоящим квестом.
Это не значит, что во благо детского чтения стоит разрушить что-нибудь в квартире. Но, полагаю, многие дети постарше предпочтут легкодоступным книгам с нижней полки те книги, что спрятаны подальше и как будто бы немного запрещены.
Публичная библиотека
Найдите симпатичную библиотеку в своем районе. Сегодня библиотеки становятся центрами чтения: в них не только выдают книги, но и устраивают самые разные книжные мероприятия, в том числе встречи с писателями. В Лиином детском саду раз в неделю принято проводить занятие в библиотеке по соседству. В моем детстве библиотеки не предлагали особенных развлечений, все необходимые книги были у нас дома, так что увидеть меня в библиотеке можно было только летом. На летние каникулы родители старались снимать дачу в Зеленогорске, небольшом курортном городе в Ленинградской области. Книг мы с собой, разумеется, не брали. Жизнь в Зеленогорске была небогата светскими выходами. Возможно, поэтому посещение местной библиотеки казалось целым событием. Я обожала не только выбирать книги, но и изучать детали библиотечного быта: читательские билеты, алфавитные каталоги в выдвигающихся ящичках.
Библиотека подстегивала мой читательский интерес, включала спортивный дух. Он у меня всегда легко включался, если речь не шла о настоящем спорте. Требовалось выбрать ограниченное количество книг и прикинуть, сколько времени потребуется на чтение. Отдельное удовольствие — вернуть все раньше назначенного срока. Я не люблю соревнования и считаю их отвратительной педагогической практикой. Но это было соревнование с самой собой, зародившееся в естественных условиях, без вмешательства взрослых.
У меня подруга работает всю жизнь в Центральной городской детской библиотеке, и я около сорока лет, когда получала пятый класс, раз в месяц водила детей к ней в библиотеку. Они готовили какую-нибудь презентацию, рассказ к походу. И так каждый год этим занимались — к старшим классам они к этому делу привыкали. Брали книги из библиотеки и менялись ими друг с другом. Это давало какую-то привязку к книге, к библиотеке. Библиотекари тоже готовили материал, показывали им интересные книги. Ребятам это нравилось. Они, выпускаясь из школы, вспоминали об этом. Потом те, кто оставался в Подольске, уже детные, сами заходили в библиотеку.
Галина Григорьевна Щербакова, Подольск, стаж преподавания 47 лет
Время на чтение
Если взрослому сложно взяться за книгу после тяжелого рабочего дня, то ребенку после школы и пары дополнительных занятий — тем более. Уже упоминавшееся исследование РДГБ, в котором участвовали в основном школьники, посещающие библиотеки, показало, что почти 20% подростков 11—15 лет читают только на каникулах. Вероятно, кто-то из опрошенных использует каникулы, чтобы одолеть программный список, а кто-то действительно любит читать и готов тратить на книги освободившееся время. Как бы то ни было, в учебный период нагрузка настолько велика, что на досуговое чтение не хватает ни сил, ни часов в сутках. Чтобы ребенок читал, ему нужно свободное время. Научный сотрудник отдела социологии РДГБ Александра Березина, представляя результаты исследования 2019 года, говорила о том, что подросткам не хватает насыщенной внутренней жизни, которая бы порождала потребность искать в книгах ответы на важные личные вопросы, обеспечивала бы эмоциональную связь между читателем и художественным произведением1. Полагаю, для образования такой внутренней жизни тоже нужно свободное время. Чтобы родился запрос на интеллектуальный досуг, для начала хорошо бы успевать дышать между школьными уроками и дополнительными занятиями.
До 16 лет у меня не было ни компьютера, ни интернета. Кружков стало много только к 14—15 годам, но именно они были основой насыщенной внутренней жизни и чтению абсолютно не мешали. В младшей и средней школе я могла в порядке развлечения говорить с друзьями по городскому телефону, слушать русский рок на кассетах и записывать на магнитофон свой голос, смотреть телевизор (правда, делать это подолгу родители не разрешали), рисовать, играть. Неудивительно, что чтение меня потихоньку затянуло. Свободного времени было много, а досуга — нет. Поэтому моим досугом стали книги.
Время на скуку
Когда ты постоянно занят, скучать не приходится. А ведь иногда поскучать необычайно полезно! Скука провоцирует интерес к чтению и саморазвитию. Мои читательские всплески в детстве и подростковом периоде часто бывали связаны с изоляцией: дача, домашняя скука, больницы, поездки к бабушке, одиночество в школе. Когда некем и нечем себя занять, книжный шкаф оказывается не хуже телевизора или интернета. Может быть, лучший способ вовлечь ребенка в чтение — случайно создать условия изоляции. Не дай бог делать это специально, но, если обстоятельства сами складываются подобным образом, у книг повышаются шансы.
Кто в здравом уме мог представить, что мои ученики в течение полутора месяцев компанией от пяти до десяти человек будут слушать, как я читаю им вслух онлайн? Но пандемия коронавируса усадила всех по домам, и мы вместе прочитали в режиме видеоконференций «Героя нашего времени» и «1984». Не стоит думать, что, дорвавшись до возможности поскучать, дети будут сутками играть в компьютер и переписываться в соцсетях. Это как суп из конфет: сначала здорово, а потом слишком сладко. Один мой ученик во время карантина приходил слушать книги в зуме именно потому, что ужасно устал от компьютерных игр.
Книги, способные выдержать конкуренцию
Дошкольнику сложно оценить медленное удовольствие, если рядом лежит пульт от телевизора, мгновенно переносящий в мир ярких картинок (не говоря уже об айпаде). Поэтому и книжки надо выбирать так, чтобы они захватывали ребенка с головой.
Когда мы читали «Мио, мой Мио» Астрид Линдгрен, Лии настолько нравилось находиться в непрерывном напряжении и бояться жестокого рыцаря Като, что мне пришлось изо всех сил сопротивляться, чтобы по окончании повести не начать сразу же читать ее заново. Достойной заменой острым ощущениям стал смех: застрявший головой в супнице Эмиль из Леннеберги обеспечил несколько минут непрерывного хохота. И хотя Лия честно признается, что мультики любит больше чтения и ни на что их не променяет, я ни разу не видела, чтобы они спровоцировали такой же приступ смеха, как приключения неугомонного шведского мальчика из книжки.
В школьные годы о добровольном чтении, скорее всего, придется забыть: обязательный список классики, отсутствие выбора и свободного времени не способствуют читательскому росту. Вот почему так важно до школы создать ребенку условия, в которых он ощутит интерес к чтению. Для этого хороши тексты, вызывающие сильные эмоции. Дети вряд ли запомнят хитрые сюжетные повороты, но связка «книга — яркая эмоция» в памяти останется.
Книги без гендерных установок
Не стоит при выборе книги отталкиваться от половой принадлежности ребенка. Пока вы предлагаете мальчикам исключительно приключенческую литературу, а девочкам — душещипательные истории о лошадях, можно случайно пропустить то, что детям по-настоящему интересно. Ничего страшного, если мальчик почитает о принцессах, а девочка о пиратах, не случится. В деле приобщения к чтению лучше вообще отбросить предубеждения и поставить во главу угла интересы ребенка. А вот от чего действительно стоит отказаться, так это от антинаучных энциклопедий для девочек и мальчиков, где транслируются гендерные установки времен «Домостроя». Стремление вырастить читателя, а значит, умного, рефлексирующего, эмпатичного человека вообще плохо вяжется с воспитанием суровой маскулинности и хрупкой женственности. Кстати, хорошие детские книги о гендерном вопросе все-таки существуют. Тем, кому как и мне, близка идея равноправия полов, могу порекомендовать книгу «Женщины и мужчины», вышедшую в 2018 году в издательстве «Самокат».
Книги попроще
Если не удается увлечь ребенка книгами, которые кажутся вам хорошими и правильными, попробуйте найти плохие и неправильные. Знала бы я, что Лия захочет читать благодаря огромному тому по мотивам мультфильма «Гравити Фолз», не подсовывала бы ей так старательно то, что нравилось мне самой в детстве.
Как-то раз моя мама принесла из магазина книгу. Она подарила мне ее со словами, что какой-то мальчик приходил в этот же магазин сорок раз и покупал по очереди сорок книг из этой серии. Я лег на диван и в первые пять минут чтения ничего не понимал, но после часа меня было уже не оторвать. Это были «Коты-воители». Сорок томов промелькнули с неожиданной скоростью. Несмотря на их сомнительную культурную ценность, для меня они значили очень много. Они показали мне, что книге не обязательно быть скучной. Такой опыт помог мне справляться с огромным потоком книжной информации. В общем, после этого я начал читать.
Леонид X., 12 лет, Санкт-Петербург
Начинающего читателя могут пугать большие блоки текста, поэтому не грех начать чтение с комиксов, манги или даже книг по мотивам компьютерных игр. Ключом к детскому чтению нередко оказывается нон-фикшн: детям нравятся книги о животных, астрономии, истории, анатомии. Например, Лия в четыре года обожала книги о здоровье и гигиене, а ближе к шести решила, что к школе она должна как можно больше узнать о мире, чтобы не ударить лицом в грязь перед первой учительницей. Так что теперь мы килограммами закупаем детские энциклопедии.
Надо сказать, что тот же путь от массового чтива к литературе проходят и дети постарше. Я знаю девушку, продравшуюся к «элитарному» чтению через «Сумерки». Вряд ли она одинока. Есть чтение для расслабления и развлечения, и ничего зазорного в нем нет. А иногда движение к книге начинается от мультфильма или фильма. Мне как учителю порой пригождаются и сериалы. Не так давно я начинала цикл уроков по античной трагедии с демонстрации отрывка из «Дикого ангела». И, судя по результату, это было верное методическое решение.
Игнорировать школьную программу иногда хочется, но не можется. Вспоминаю, как мы с нашим учителем вместо чтения «Идиота» Достоевского смотрели одноименный сериал. В итоге я прочитал еще и книгу. Могу точно сказать, что ничего не потерял, а даже, наоборот, приобрел.
Валерий, 16 лет, Челябинск
Незнакомые книги
Есть подозрение, что родители не просто хотят, чтобы дети читали, но ожидают, что они полностью повторят их читательский путь. Мы спускаем сверху все самое дорогое для нас и жутко злимся, не получая ответной радости. Но ведь есть и другой способ создания общего интеллектуального и эмоционального пространства с ребенком: постигать новое вместе. Современная детская литература поднимает важные проблемы толерантности, инклюзии, инаковости. Будет здорово, если вы вместе с ребенком задумаетесь о подобных вопросах, тем более что со многими из нас в детстве обо всем этом почти не говорили. Я не самый сентиментальный человек, но, читая Лии книгу Бирты Мюллер «Планета Вилли» о мальчике с синдромом Дауна, не сдержалась и заплакала. И подумала о том, насколько таких историй не хватало, когда я была маленькой.
Может быть, ваши дети никогда не полюбят «Робинзона Крузо» так, как вы. Но если настойчиво предлагать проверенную временем детскую классику и не искать ничего нового, способного заинтересовать в первую очередь самих детей, а не вас, то можно отвратить от чтения навсегда. Чтобы ребенок зачитал, он должен встретить «свою» книгу. Здорово, если вы окажетесь рядом и сможете разделить с ним этот опыт.
Недочитанные книги
Не стоит в раннем детстве продолжать читать книги, очевидно порождающие скуку и отторжение. Не дочитывать можно, а иногда и просто необходимо. Преодоление себя в процессе чтения полезно лишь тогда, когда человек вышел на определенный читательский уровень, когда книга в его представлении уже стала приятным и предпочтительным содержанием досуга. Вот тогда можно не без удовольствия продираться сквозь многостраничное описание тайги у Астафьева или ломаную грамматику Платонова.
Миф о том, что любой текст от наклейки на освежителе воздуха до «Улисса» нужно непременно дочитывать до конца, неистребим. Помню, как в детстве с легкостью прочитала «Робинзона Крузо», «Последнего из могикан», «Всадника без головы», но романы Жюля Верна мне так и не дались. А набор фигурок «Собор Парижской Богоматери», которые мы с сестрой коллекционировали за несколько лет до этого, никак не помог осилить Гюго. Я два-три раза брала роман с полки и, потерпев очередное поражение, возвращала на место.
Я бросала книги, но вместо облегчения ощущала тяжесть своей читательской несостоятельности. К сожалению, до конца избавиться от этого чувства так и не удалось. Вот если бы тогда кто-нибудь сказал мне маленькой, что не дочитывать нормально... Чаще я откладывала книги не столько от скуки, сколько от страха не справиться. Например, у нас дома был роман «Петр I» в каком-то невообразимом издании: на его примере можно объяснять детям, что такое фолиант. В студенческие годы я начинала читать «Петра I» в электронной версии и очень увлеклась, но до конца не выдержала, так и не смогла избавиться от образа гигантского, непреодолимого тома. Впрочем, тут у нас с Толстым паритет: он не дописал — я не дочитала.
Я все еще корю себя, когда забрасываю очередную книгу, но, слава богу, продолжаю это делать. Надеюсь, мне удастся вырастить ребенка, уверенного в своем праве как оставить книгу на полпути, так и вернуться к ней в любом возрасте.
Без книг
Детское внимание изменчиво. За ним всегда стоит интерес, актуальные для ребенка потребности, и было бы удивительно и даже вредно для общего развития, если бы в дошкольный период в приоритете постоянно оставалось чтение. Дети успеют стать начитанными снобами с плохой осанкой к 25—30 годам, и это обязательно вызовет у вас родительскую гордость, а у их потенциальных партнеров — симпатию, но в дошкольном возрасте ведущей деятельностью должна оставаться игра, в том числе связанная с двигательной активностью.
Через два-три месяца после категорического отказа Лии от чтения мы испортили ребенку режим дня, потому что до ночи зачитывались «Мио, мой Мио», причем между первыми главами и всей повестью потребовался минимум месяц перерыва. Это в школе нет возможности бросить Толстого на полпути и вернуться к нему через месяц-другой. А пока никакого обязательного списка еще нет, нужно пользоваться этим и не бояться, что кратковременная потеря интереса к чтению будет слишком дорого стоить.
Перерывы нужны и вам. Да, все говорят, что чтение в детстве должно стать ритуалом. Также все говорят, что важно не количество времени, проведенного с ребенком в одном пространстве, а его качество. Где-то вы прочтете про двадцать, а где-то про сорок минут качественного времени вместе, которые делают из «ужасного» родителя «сносного» и кое-как притупляют чувство вины и чрезмерную рефлексию. Очень удобно посвятить спасительные минуты ритуалу совместного чтения. После долгого рабочего дня такая перспектива кажется намного соблазнительней активной деятельности (и не говорите, что вы никогда не читали с упоением статьи в духе «101 игра, не требующая от взрослого вставать и открывать глаза»).
Однако важный ритуал никуда не испаряется, переставая быть ежедневным. Дети могут временно утрачивать интерес, а вы — силы. Необязательно мучить себя, если к моменту укладывания или другому времени, выделенному в вашей семье под чтение, вы вдруг неожиданно закончились. Еще ни один ребенок не стал несчастнее из-за того, что привычные книжные полчаса разок заменили мультфильмом. Думаю, ни один родитель, предложивший такую замену, не попал в специальный ад для родителей. И это точно не та воспитательная ошибка, о которой спустя десятилетия рассказывают психотерапевту.
Более того, если вы начнете вспоминать счастливые моменты из своего детства, выяснится, что многие из них связаны с непростительным поведением взрослых, покупавших мороженое, когда нельзя, разрешавших смотреть мультики в неположенное время, позволявших прогулять школу. Одно из самых ранних и самых теплых моих воспоминаний — бабушка, тайком давшая мне перед сном жвачку. Не какую-нибудь приличную, а такой цветной химический шарик из блистера. Наверняка еще и после того, как я уже почистила зубы. Шалости и нарушения, которые сегодня кажутся жуткой родительской оплошностью, завтра могут стать для повзрослевших детей опорой, ценным психологическим ресурсом.
Перерывы в чтении возникают и на пути более взрослых читателей: и в начальной школе, и в подростковом возрасте, и в студенчестве. Обратитесь к своему опыту: наверняка остановки были и у вас, но читать вы от этого не перестали.
Кстати, не понимаю, в чем смысл так категорично разделять людей на читающих и нет. Это ставит человека перед однозначным выбором, и если он просто не находит много общего с ботаником, который постоянно сидит с книжкой, то сразу определяет себя в ряды нечитающих. Выбрал сторону — следуй правилам. Если человек идентифицировал себя так изначально и поставил себя по другую сторону от книг, то это перерастает в некую привычку и непринятие.
Лиза, 16 лет, Санкт-Петербург
Я читал настолько самозабвенно, что к четвертому классу посадил зрение до минус трех и надолго забросил чтение. Это был «тяжелый» период, свойственный подросткам (забегая вперед: не думаю, что он закончился). Друзей у меня не было, поэтому свободные часы я проводил в столярной мастерской отца или с гитарой в руках. На книги совсем не оставалось времени, и этот отрезок жизни мне вспоминается сейчас как довольно темное время. Сейчас же я тот, кто я есть, именно благодаря книгам.
Иван, 17 лет, Рязань
Чтение как игра
Поддерживать интерес к чтению можно и в свободное от него время: игры по мотивам книг, рисование героев, совместное сочинение фанфиков — все это идет на пользу, если находит у ребенка отклик. К фантазиям вообще нужно относиться бережно. Например, ни в коем случае нельзя ругать детей за то, что они изображают чтение, глядя в книгу и сочиняя текст на ходу. Это необходимый этап, развивающий в ребенке творческое начало и приближающий к настоящему самостоятельному чтению. Однажды, «читая» прабабушке по скайпу, Лия произнесла: «Машину времени построили в 25-м году. Ее изучали так нежно, как будто это котенок». При иных обстоятельствах мы бы и не узнали, какая альтернативная реальность живет в голове нашей дочери.
В шесть лет я с удовольствием рассматривала альбомы ренессансных художников и раскладывала их на прилавке воображаемого книжного магазина. Другим источником игр стали мифы Древней Греции. Я рисовала по их мотивам, играла в древнегреческих богов (себе обычно выбирала роль Гебы, видимо, из-за Тютчева) и даже устраивала родителям выставки рисунков с экскурсиями. Сакральность книг в нашей семье была не безграничной: играть в них разрешалось. А вот за испорченные иллюстрации в книге Вадима Левина мама, конечно, ругала — ее расстройство мне понятно, но, когда ты ребенок, любой контурный рисунок в книге кажется недвусмысленным призывом к раскрашиванию.
Чтение как шалость
В подростковом возрасте хочется нарушать запреты. Подросток неизбежно будет пробовать то, что ассоциируется со взрослой жизнью, делать необходимые для инициации глупости. Чтение способно стать для таких глупостей достойным пространством. А взрослые могут цинично воспользоваться пубертатной тягой к запрещенке для благородной цели — формирования у ребенка интереса к чтению. Метод скользкий и непедагогичный, но работающий.
Запрещенная литература на меня действует как запретный плод, то есть сорви и съешь. Например, я в 12 лет хотел посмотреть сериал «Игра престолов» и столкнулся со строгим запретом. Тогда я пошел на хитрость и заключил с родителями договор: если я прочту все книги по списку на лето, то смогу прочитать то, что захочу. За июнь я разделался со всеми (они, кстати, были весьма интересные) и за два месяца прочитал всю сагу «Песнь льда и огня». А когда уже прочитал, как-то глупо не дать посмотреть сериал.
Владислав, 13 лет, г. Жуковский, Московская область
В десять лет мне досталась лучшая книга для прилежной пятиклассницы — толстенный том «Русского школьного фольклора». Составитель Александр Белоусов собрал в нем страшилки, садистские стишки, пародии на басни Крылова, дразнилки — словом, все, чем развлекались школьники XX века. Вообще это научный труд, но меня, конечно, анализ по Бахтину тогда не интересовал. А вот сами перлы я запомнила намертво (при том, что память у меня так себе). Приводить их тут не буду — слишком много непристойностей и мата, но в пользе этого сборника именно для развития интереса к чтению я уверена. Он интересный, ужасно смешной, в нем масса литературных отсылок. Узнавание отсылок — отдельное удовольствие, подкрепляющее интерес к литературе и показывающее ребенку, насколько полезным может оказаться культурный багаж.
Конечно, тем, кто не приемлет нецензурной лексики, касаться этого труда не стоит. Но в моем случае семья спокойно относилась к любым языковым явлениям. «Русский школьный фольклор» сработал: в 12 лет я с увлечением читала стихи Державина и переписывала их матом, чем немало веселила одноклассников. Уверена, не для всех родителей это желаемый образ десяти-двенадцатилетнего ребенка. Можно искать и другие, не столь радикальные пути, но очень важно, чтобы ребенок получил опыт чтения как шалости.
Словесные игры
Любовь к слову формируется не только в непосредственном контакте с книгой, но и в игре. Показывайте ребенку, как можно обращаться со словом, как играть с ним. К тому же словесные игры развивают речь, а вероятность вырастить читателя из человека с бедной речью мала.
Наше с папой общение один на один с детства было окололитературным. Мы много гуляли, ходили пешком на Крестовский остров и во время прогулок по строчкам сочиняли смешные, глупые стихи. Веселый сочинительский опыт тоже вводил меня в мир литературы, я училась получать удовольствие от слов. А еще мы играли в «слова», города, виселицу, «Эрудит». Тем же я занимаюсь с Лией. Поэтому ей интересно, какие слова рифмуются, она радуется, что из слова «фильм» с помощью приставки «мульт» получается «мультфильм». Чем больше языковых вопросов у нее появляется, тем сильнее растет интерес к книжкам. Привычка к игре со словом задает особый тип мышления, мировосприятия и со временем помогает открыть удовольствие от чтения.
Литературный проводник
Какую бы боль ни приносил отказ ребенка от чтения, родители зачастую столько работают, что качественно поддерживать интерес к литературе не могут чисто физически. Желая изменить ситуацию, но не имея для этого достаточного ресурса, они критикуют ребенка, тяжело вздыхают и в конце концов вводят какую-нибудь спасительную меру вроде принудительного часа чтения. Этот час, если вас и так мало в жизни ребенка, лучше потратить на совместное удовольствие. А для погружения в чтение можно найти взрослого «на замену».
Мне с таким взрослым очень повезло. В кружке «Анализ художественного текста», куда я попала в 14, Рахиль Израилевна Беккер вела занятия, после которых взахлеб читался и Сумароков. Затащить незаинтересованного школьника в литературный кружок невозможно, да и не нужно, поэтому важно понять, где ваши дети говорят о книгах чаще, чем с вами. Скорее всего, в школе. Большая удача, если любовь к чтению возникнет на уроках литературы, а не вопреки им. Может быть, лучшее, что в силах сделать занятые родители, это найти школу с хорошим, подходящим ребенку учителем литературы.
Я училась в трех школах, с 5-го по 11-й класс у меня сменилось четыре учителя литературы, и только от одной пришлось сбежать. Но мне и не требовалась особая феерия: я просто всегда любила обсуждать тексты — неважно, на литературе или на уроках, где изучались традиции еврейского народа. На «Традициях» мы однажды обсуждали знаменитое высказывание древнееврейского мудреца Гилеля: «Если не я за себя, то кто за меня?». В случае с детским чтением родителям нужно воспринять этот вопрос как руководство к действию и найти значимого взрослого, который заменит их и поможет ребенку заинтересоваться книгами.
Когда я перешла в пятый класс, у нас поменялся педагог по русскому языку и литературе, которая не выносила 1) меня, 2) моего почерка, 3) моих ошибок в элементарных вещах, 4) идиотских мыслей в моих сочинениях. И еще она заставляла нас принимать участие в олимпиадах первого уровня, чтобы повышать свой рейтинг. Она меня не любила, потому что я не побеждала в этих олимпиадах.
Тогда мама решила, что нужна помощь педагога, который попытался бы заинтересовать меня чтением и анализом художественных произведений. Руководствуясь своей потрясающей интуицией, она нашла университетского преподавателя, который не просто «натаскивал» на решение тестов ОГЭ/ ЕГЭ, но старался привить любовь к родной речи и литературе, во всяком случае — не оттолкнуть от своих предметов. Именно благодаря ей я поняла, что мне стоит развивать свое творческое начало, которое тогда только начинало проявлять себя. С тех пор все и началось. К 12 годам я прочитала многое из того, на что «забивала» раньше, устранила пробелы в области школьной литературы и написала свою первую повесть.
Ольга, 17лет, Екатеринбург
Я не могу сказать, что мне не нравилось читать книги, нет. Отрицание вызывали только те произведения, которые были навязаны учителями и были обязательны к прочтению. Я не могу назвать себя послушным ребенком с простым характером, поэтому на протяжении периода нелюбви к чтению я пыталась активно высказывать свое мнение, но ответ всегда был один: ты еще никто, чтобы иметь свое мнение.
Ситуация в корне изменилась с переходом в восьмой класс. Тогда в нашу школу пришла новый директор. Один разу нас состоялся разговор, связанный с творчеством одного писателя. После него директор была удивлена тому факту, что я не люблю читать. Именно она указала верный путь и внесла значительный вклад в мое литературное образование. Осознанный выбор книг был под ее чутким руководством. И первой моей серьезной книгой, которую я прочла до конца, а не забросила, не прочитав даже половины, была «Педагогическая поэма» Антона Семеновича Макаренко. Кто-то может подумать: как книга педагога, в котором описаны методы воспитания сложных подростков, может заинтересовать ребенка? Да очень легко. Эту книгу я решила прочесть сама по совету директора, а не по указанию с пометкой «обязательно». Теперь эта книга в списке самых любимых, обсуждать ее сюжет я могу часами.
Соня, 17 лет, Орел
Книжный пиар
Родитель будущего читателя всегда должен оставаться немного пиарщиком. Нужно уметь соблазнять ребенка чтением, заманивать в этот мир: покупать книги с его любимыми динозаврами, с интерактивными элементами, аккуратно спойлерить, делиться собственными эмоциями от того или иного текста. Приемы с каждым ребенком будут срабатывать разные, даже с одним и тем же ребенком в разное время понадобятся разные зацепки.
Я помню два ярких момента, когда читала благодаря папиным «крючкам». Первый раз это был роман «Дубровский» после пятого класса. Если я чем-нибудь возмущалась или волновалась по какому-нибудь незначительному поводу, папа всегда говорил: «Спокойно, Маша, я Дубровский». Только ради этой фразы я прочитала роман. То, что ее в нем не было, меня ужасно разочаровало, а все-таки книжка была прочитана и оказалась интересной.
Во второй раз я перед поездкой в Крым после десятого класса спросила папу, какие книги из школьной программы взять с собой. Он предложил среди прочего «Котлован», сказав, что не осилившему Платонова на филфаке делать нечего. Звучит, конечно, как пошлейшая учительская манипуляция, но папа искренне верил в свое сомнительное утверждение. Книжка Платонова так и не увидела моря: «Котлован» я прочитала за пару дней и оставила дома.
В 11 лет меня взяли на слабо. Когда мы переходили из четвертого класса в пятый, к более требовательным учителям, нам попалась самая строгая учительница русского языка и литературы. И моя одноклассница бросила колкую, но мотивирующую фразу: «Ну что, вот и кончились, Дашка, твои пятерки!». Чтобы доказать ей, а уже позже и себе, я принялась читать. Много. Два года я пыталась осилить полный список литературы, увеличивая количество книг. Читать для себя казалось абсурдным. Да и нужными знаниями для пятерки я и так владела. А в седьмом классе я попала на муниципальный этап олимпиады по литературе. Чтобы не ударить в грязь лицом, я принялась разбираться во всех произведениях. Именно тогда зародился мой неподдельный интерес. Искать смысл, подмечать детали, общаться с автором через книгу — все это разожгло мою любовь к книгам.
Дарья, 15 лет, Лиски
Брать детей на слабо — плохая идея, примерно такая же, как и рекламировать книги в духе: «Не читайте эту книгу ни за что, она вам не по возрасту». Но все же можно нечаянно или нарочно закидывать читательские крючки погуманнее. Разумеется, для этого родителю желательно самому быть активным читателем, иначе цеплять будет не на что.
Политика невмешательства
Ждать, пока у ребенка проснется интерес к чему-нибудь сам по себе, утомительно и ненадежно. Но иногда именно отказ от вторжения и навязывания означает уважение к другому, признание его права быть. Помню, как сдерживалась, чтобы не помочь Лии, когда она первый раз несла через комнату тарелку с гречей. Мысленно я повторяла: даже если не справится, каша без труда собирается с пола пылесосом. Вот и с чтением пришлось терпеливо наблюдать со стороны. Мы с мужем набрались сил и в какой-то момент выбрали политику невмешательства. Нам повезло: сработало. Боюсь, наш рецепт никак не тянет на универсальный, однако у идеи на некоторое время отстать, кажется, есть потенциал. Помните, как в рекламе из нулевых: «А ты налей и отойди»? Отошли мы недалеко и ненадолго. Наш отказ от чтения довольно быстро породил потребность слушать книги. Именно книги, требующие активного участия родителей и внимания ребенка, а не аудиосказки, под которые Лия обычно на середине засыпает. Вскоре она сама начала проявлять инициативу, и мы вернулись к регулярному чтению вслух перед сном.
Разговаривайте с ребенком
А вот этот совет, пожалуй, самый важный. Исследовательница детского чтения Александра Березина в рамках лектория «Как вырастить читателя?» отмечает, что одной из причин нечтения становится «командный стиль общения» в семье. «Сделай домашнее задание», «почитай час перед сном», «почисти зубы», «помой посуду» — такой тип коммуникации ведет к потере взаимопонимания между родителями и детьми. И тут уже никакие общие книги не помогут. Чтобы ребенок захотел читать, недостаточно читающей семьи — семья должна быть еще и разговаривающей. Не отнекивайтесь от детских вопросов. Сегодня вы не отвечаете на бесконечные «почему», а через десять лет никто не ответит на ваше «Что с тобой?». Не бойтесь сложных тем, они все равно никуда не спрячутся от ребенка. Говорите с детьми о любви и дружбе, жизни и смерти, семейных ценностях и скелетах в шкафу. Тогда чтение станет продолжением принятого дома открытого разговора. Ни один нравоучительный монолог о пользе книг не заставит ребенка читать с интересом. Чтение — плод диалога. И что-то подсказывает мне, что начинать этот диалог стоит с первых лет — вместо методик раннего развития.
Как испортить читателя в домашних условиях
Вроде бы совершенно очевидно, что для воспитания читателя нужно приложить немало усилий. Но жизнь чрезвычайно иронична: часто родители и учителя убеждены, что прививают ребенку любовь к чтению, а на самом деле их старания только отвращают его от книг. Было бы приятно написать о таких забавных взрослых в третьем лице, но ведь и я одна из них. В начале книги я рассказывала новогоднюю историю о дочери и ее отчаянном «Не смейте читать!». Как же нам с мужем удалось настолько достать Лию?
С высоты своего опыта могу предложить перечень вредных советов. С большой долей вероятности они помогут вам испортить отношения ребенка с книгой в первые пять лет, а то и быстрее. Впрочем, не исключаю, что в руках других родителей наши провальные методы могут сработать иначе.
1. Не задумываясь, влезайте с предложением что-нибудь прочитать в любые игровые ситуации. Используйте каждую свободную минуту: моменты отдыха, время ужина или вечерних объятий. Как бы вы восприняли предложение поработать дома после работы? Массажист был бы счастлив сделать родственникам массаж, учитель — проверить тетради своих детей, повар — приготовить еду. Логика ясна. Если вы также, как и я, цинично сдаете ребенка в садик, где он вообще-то целый день чему-нибудь учится, то наверняка знаете: нет для него большей радости, чем освоить вечером пару новых навыков. Можно еще порешать математические примеры или пообводить цифры по точкам.
2. Спрашивайте про чтение и книги как можно чаще. Через день-другой после того, как вместе что-то прочитали, обязательно задайте вопрос о прочитанном, попросите пересказать. Двигайтесь в сторону того, что в школе называется «проходить», уже сейчас. Если у ребенка случился интимный читательский опыт и он получил дозу литературы на стороне: в саду или с другим родственником, — смело вторгайтесь. Интересуйтесь, спрашивайте, требуйте поделиться впечатлениями. Раз уж взяли на себя роль ответственного за литературное воспитание, жмите до конца.
3. Все время читайте ребенку вслух, хочет он того или нет. Начните с виммельбухов. Навязчиво комментируйте все картинки. Не сдавайтесь, если ребенок не разделяет ваш энтузиазм. Или если находит другой способ взаимодействия с бумагой. Да, вы знаете, что ведущий тип деятельности в этот период — игра. Так почему бы тогда детям не сыграть с вами в хороших детей хороших родителей? По желанию «хороших» можно заменить на «умных», «правильных», «лучших». В общем, следовать нужно за целью, а не за ребенком, особенно когда цель благая.
4. Семейное чтение вслух — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы смешивать его с обучением? Ребенок внимательно слушает сказку или что-то помощнее в вашем исполнении, и тут вы просите прочитать название следующей главы. Серьезно, это лучшее, что я сделала, чтобы моя дочь разлюбила «читать» перед сном. Вообще-то формула «страничку — я, страничку — ты» может и сработать. В пять с половиной Лия с удовольствием напополам со мной читала название следующей главы и с нетерпением ждала завтрашнего сеанса вечернего чтения, чтобы узнать, что скрывается за названием. Но за полгода до этого, когда ей было пять, злилась и расстраивалась. Так что вредите с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка.
5. Не менее важно одновременно недооценивать и переоценивать своего ребенка. К пяти годам Лия знала многие сказки братьев Гримм, слушала в аудиозаписи Андерсена, Астрид Линдгрен, Драгунского, Зощенко, всех «Незнаек», «Нильса», мы читали ей «маленькую» трилогию Отфрида Пройслера, детские стихи Григорьева, Чуковского, Маршака, Заходера, Ренаты Мухи, Вадима Левина, Хармса, Введенского и даже Мандельштама, книги «Самоката» и «Поляндрии». Означает ли этот далеко не полный список, что ребенок уже сейчас должен научиться читать и отправиться в мир самостоятельного чтения без страховки? Разумеется, означает: кто способен хорошо воспринимать информацию и строить сложные предложения, в состоянии осилить и чтение. Так что универсальный вредный совет: не стоит хвалить ребенка за то, что ему уже удалось, обязательно дайте понять, что ему еще есть над чем работать!
Надо признать: мы с мужем попали в типичную родительскую ловушку. Нам хотелось, чтобы дочь стала лучшей версией нас. Но правда в том, что человек может стать только лучшей версией себя. Не факт, что в погоне за поощрением чужих надежд и амбиций, а в этом случае мама и папа — чужие, ребенок не возненавидит область, в которой он «должен» реализоваться. Нет, мы не выкинули книжки. И не оставили мечты о том, что Лия захочет читать. Но я запретила себе и мужу настаивать, манипулировать, незаметно подталкивать и так далее.
Вскоре после той злополучной елки у меня с Лией состоялся разговор: она объяснила, что читать самой очень сложно, что она пока к этому не готова, но послушать, как читаем мы, не против. Это уже не было криком детского сопротивления, а звучало как четко сформулированная позиция, которую мы услышали и приняли.
Меня и саму в детстве слегка подпортили как читателя. Разумеется, хорошего тоже было много, но о нем позже. Возвращаясь к своим детским воспоминаниям, я понимаю, как делать не надо. И надеюсь, что теперь, когда мои первые попытки вырастить читателя провалились, я хотя бы найду в себе силы отказаться от удовольствия воспроизвести мамины и папины ошибки.
Опережающее чтение
В интервью папа с гордостью вспоминает как Майя в третьем классе прочитала Гомера. Легко понять, что родителей это впечатлило. Правда, идея прочитать «Илиаду» в девять лет принадлежала вовсе не самой сестре. Были и другие книги, осиленные раньше времени. Не думаю, что опережающее чтение всегда полезно. И уж точно интерес к литературе, соответствующей возрасту, не уменьшает заслуг читателя. Не нужно поощрять только лишь опережающее чтение. К тому же стоит помнить, что умиление при виде ребенка, читающего недетские книги, может оказаться не менее разрушительным, чем попытки сделать из него вундеркинда. Литература здорово влияет на психику и мировосприятие. Так почему бы не разрешить читающим детям оставаться детьми?
До того как я начал много и подолгу читать, и попросту до того, как мне стало нравиться читать и это стало всерьез менять мою жизнь, я был обычным мальчиком, для которого чтение было списком на лето и чем-то ужасно занудным, что никак не может доставлять удовольствие. Также оно ассоциировалось с вечерним чтением, которое устраивали родители. Возможно, в пользу моей скуки сыграло то, что в нашей семье при выборе книги никто никогда не ориентировался на возраст потенциального читателя. Так, мне в семь лет приходилось слушать «Мертвые души», а теперь мой младший брат (семь лет) слушает «Попрыгунью» Чехова, и его еще спрашивают, что он о ней думает. Один раз, когда болел, где-то в возрасте восьми лет, моя мама развлекала меня «Крысоловом» Цветаевой.
Леонид X., 12лет, Санкт-Петербург
Завышенные ожидания
Я читала, но до планки, поставленной сестрой, мне было не допрыгнуть. Например, родители страшно гордились тем, что Майя, кажется, в девять лет смогла за летние каникулы выучить наизусть сорок стихотворений. Моя неспособность повторить этот подвиг и некоторые другие литературные достижения сестры автоматически низводили меня до статуса нечитающего ребенка. О том, что память бывает разной и дети — тоже, никто не думал. От сестры ждали многого, периодически в семье поговаривали даже о гениальности. Наверное, отчасти родители были правы: тип мышления Майи по-своему уникален. И все-таки не стоит делить мир чтения на черное и белое, а детей — на читающих гениев и нечитающих простачков.
Из-за конфликта между ожиданиями родителей и реальностью чтение часто травмирует. Когда на читательскую травму накладывается травма сравнения с другим ребенком, шансы вырастить читающего человека стремительно уменьшаются. Каждому нужны свои книги, соответствующие интересам, темпераменту, характеру. Чем подбирать для ребенка травмоопасный ориентир, лучше подобрать ему, отдельному, особенному человеку, список книг, подходящих по возрасту и по духу.
Подкуп
Когда я подросла, родители уже поняли, что дарить подарки за чтение — ошибка. Но мою сестру за книжные достижения поощряли материально. За «Илиаду», «Одиссею», мифы Древней Греции, знание сюжетов и героев — первая настоящая Барби, за стихи наизусть — ручка «Паркер». Хорошо хоть идею выучить главу «Илиады» забросили: глава гекзаметром — перебор даже на фоне всего остального перебора.
Недавно я спросила Майю, с которой мы, несмотря на старания родителей, очень близки, чем для нее обернулась история с Гомером. Она сказала, что читать было интересно, но интерес к Барби все же перевешивал. Из хорошего — в семье осталась легендарная история, как сестра, начавшая уже понемногу верить в греческих богов, случайно уронила «Илиаду» в унитаз. Испугавшись содеянного, она начала молиться — бабушке пришлось бежать к туалету на вопль: «Зевс-громовержец, о боги Олимпа!». В остальном довольно грустная история: невротизация вокруг системы вознаграждения и убежденность в том, что получить вожделенную куклу можно, только приложив огромные усилия. При этом сами гомеровские сюжеты быстро забылись, и, когда Гомер понадобился в институте, Майя не помнила уже ничего. Перед экзаменом она прочитала краткое содержание: оригинал вызывал только ужас, повторить подвиг сестра не решилась.
Полная свобода
Папа беспокоился о том, чтобы я читала, но при этом глубоко моим чтением не интересовался. Мама отвечала за школьную программу, в остальном в детали тоже не вдавалась. Никто не знал, что в 12 лет в гостях у бабушки я окончательно полюбила читать, найдя в чужом шкафу «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Никого не смущало, что в мои тринадцать из комнаты, где хранилась большая часть домашней библиотеки, ненадолго пропала «Москва — Петушки». Может, и это осталось вне поля зрения взрослых. Все положительно относились к семи романам Кундеры, которые я планомерно осваивала с 15 лет. Я рада, что одним из результатов подросткового чтения стала насыщенная юность, хотя не отказалась бы избежать некоторых литературных установок: можно было чуть меньше увлекаться страданиями, саморазрушением и поисками демонического героя.
Я не утверждаю, что книги навредили мне, но убеждена, что, прочитанные не вовремя и отрефлексированные в одиночестве, они на это способны. Ни в коем случае не следует запрещать детям читать какие-то тексты, но хорошо бы интересоваться, что читает ребенок, какая литература его формирует, — не столько для контроля, сколько для честного человеческого диалога.
Моральная паника в отдельно взятой семье
В семье я считалась нечитающим ребенком. Теперь мне кажется, что родители ошибались, но поняла я это, только приступив к написанию книги. Нередко то, что думают и говорят о тебе взрослые, со временем вытесняет из памяти и замещает реальную картину. И вот я прожила 29 лет в полной уверенности, что до двенадцати чтением не интересовалась. Впитала панику окружающих и до сих пор, если провожу какое-то время без книг, думаю про себя: «Кошмар, она не читает!».
Видимо, дело было не столько в моем нечтении, сколько в более активном и впечатляющем чтении старшей сестры Майи. Я вовсе не стремлюсь обвинять маму и папу в своих читательских бедах. Во-первых, у них не было тех привилегий, какие есть у меня как у матери: ни доступа к огромному количеству книг и статей о воспитании, ни опыта психотерапии, ни педагогического образования (формально у папы оно было, но ключевое слово — «формально»). Во-вторых, еще неизвестно, сумею ли я не повторить ошибок родителей. Мне хочется понять, что они чувствовали и чем руководствовались, воспитывая меня и видя, что я как читатель не соответствую их ожиданиям. Понять, как эти ожидания формировались, посмотреть на себя глазами родителей. Поэтому я поговорила с папой — его вся эта ситуация задевала больше, чем маму. К тому же мы коллеги. Оба — сапожники без сапог: я сегодня — учительница литературы, поэтесса и мать пятилетнего ребенка, не проявляющего к книгам «достаточного» интереса, а папа двадцать с чем-то лет назад — учитель литературы, поэт и отец «нечитающего» ребенка.
У тебя рано появились дети. По сути, ты тогда был очень молодым человеком. Когда родилась Майя, ты еще не преподавал, а к моменту моего рождения работал учителем литературы всего три года. Вряд ли твоя убежденность в том, что дети должны читать, была учительской позицией. Почему для тебя это имело большое значение?
Честно говоря, я не очень понимал, какие еще могут быть интересы у человека. Ну, конечно, можно в филармонию ходить (я и ходил в юности довольно часто), живопись любить (этот интерес у меня остался) или театр (вот с этим у меня плохо). Но только чтение мне казалось естественной человеческой деятельностью. Я, кстати, стал меньше читать, уже работая в школе. Часов обычно было много (доходило в иные годы и до 50 в неделю), так что сил на чтение не оставалось. Но детям-то что еще делать, кроме как читать? Ну, поиграл — и читай. Майя оказалась послушной, читала легко и быстро. С тобой было хуже.
Какого ребенка ты тогда мог назвать читающим? Каким критериям он должен был соответствовать? Изменилось ли твое представление об образе читающего ребенка сейчас, спустя примерно двадцать лет?
Сейчас соображу, что я думал об этом двадцать лет назад. Мне было удобно работать с детьми, которые были в состоянии прочитать школьную программу и при этом еще что-нибудь. В классе обычно находился один такой ребенок, в расчете на него я и работал. Остальным сообщал что-то такое, с чем можно было сдать выпускной экзамен по литературе. Не уверен, что мое представление изменилось. В целом я существенно помягчел, поубавилось высокомерия, я стал понимать, что дети имеют право на какие-то другие виды духовной жизни. Но по-прежнему думаю, что читающий ребенок — это тот, который может прочесть в день между делом страниц двадцать, а за месяц, соответственно, одну книгу объемом в «Преступление и наказание». Если он читает больше — ну, молодец. Буду радоваться.
Когда и почему ты сделал вывод, что я нечитающий ребенок?
Дату не назову. Но ты, конечно, отклонялась от нормы, которая была у меня в голове. Майя этой норме соответствовала, даже превышала ее (прочесть в третьем классе «Илиаду» и «Одиссею» — это круто), ты не соответствовала. Мне вообще тяжело давалось понимание, что, кроме моей точки отсчета, бывают еще какие-то. Работал такой инфантилизм. Отчасти после пятидесяти это стало проходить, но процесс не завершен.
Что ты испытывал, думая, что младшая дочка, в отличие от старшей, не соответствует твоим представлениям о читающем ребенке, твоим родительским ожиданиям?
Что испытывал — не помню. Не думаю, что это было раздражение или разочарование. Как человек ты мне была интересна, я тебя любил (оба пункта действуют и сейчас). А в старших классах, после занятий в кружке Рахили Израилевны Беккер2, ты стала демонстрировать такие аналитические фокусы, что я безусловно признал в тебе сестру по разуму. Твоя работа о Набокове и Блоке3 была очень сильной, именно аналитически сильной. Может быть, в связи с этим я постепенно стал думать, что дело не в количестве прочитанных книг, а в умении их понимать и интерпретировать.
Что ты предпринимал, чтобы изменить ситуацию?
Что из этого срабатывало со мной?
На этот вопрос ответить особенно легко. Ничего не предпринимал. Когда ты была ребенком, количество книг у нас в доме все время росло. Появились, например, альбомы, посвященные ренессансным итальянцам. Ты их с интересом рассматривала с бабушкой. Мама делала с тобой уроки. Я продолжал ничего не предпринимать. Когда ты стала по следам Майи читать западную прозу XX века, по-моему, одобрял. Но не более того.
Как ты думаешь, какие ошибки вы совершали на моем и Майином читательском пути? А что, наоборот, было сделано правильно?
Начнем с правильного: в доме были книги. Я эти книги читал. Ты терлась в писательской компании (вспомним Комарово и Горелово4, видела, что люди не только пьют, но и пишут. Весь «Пенсил-клуб» собирался по поводу книг, причем преимущественно по поводу классики. Очень светлой историей мне кажется ваш с Майей ржач над «Русским школьным фольклором»5. Думаю, это правильная обстановка и правильный пример. Неправильным было то, что раннее чтение Майи стимулировалось очень дешевыми подарками, то есть ее мотивация была поначалу внешней. С тобой мы к этому не прибегали. Кроме того, бабушка с упоением смотрела сериалы, а ты вместе с ней. Это, конечно, сбивало с курса. Но Рахиль Израилевна все поправила.
Недавно я стала вспоминать себя в возрасте десяти лет. Да, я не всегда фанатела от школьной программы, но в свободное время помню себя читающей «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого, записки Чехова. Еще всплывает картинка, как я отвоевываю возможность есть в комнате и вместе с обедом проглатываю «Кортик» Рыбакова. Эти мои читательские успехи были скрыты от тебя из-за огромной нагрузки на работе или объемы чтения казались недостаточными, а выбор книг — неверным?
Вот это сильно! Я только из этого вопроса узнаю, что ты читала «Отрочество» и «Юность» (может, и знал, да забыл). Про «Детство» помню. Я, кстати, не читал этих книг вообще. Первый том Толстого так и не открывал. И «Кортик», кажется, тоже не читал. Не читал я и твоего любимого Монтейру Лобату6. То есть я процесс не контролировал и, видимо, даже не пытался. Возможно, отделывался какими-то оценочными высказываниями. Едва ли этот выбор мог показаться мне неверным. Скорее всего, я просто всего этого не видел.
Майя как-то сказала мне, что уже давно отказалась от художественной литературы и интересуется в основном специализированной. Когда ребенку не десять, а 35, это так же важно? Беспокоит ли тебя, что она не читает художественную литературу?
Она взрослая умная тетя со своими вкусами и представлениями о жизни. Меня больше беспокоит, что она не пишет. У нее замечательный прозаический талант, она написала несколько очень классных рассказов. Но занимается другим. Ей виднее, чем заниматься.
Сейчас у тебя растет внучка. Боишься ли ты, что она не будет читать? Почему?
Не боюсь, но вижу такую возможность. Мне не нравится, что она не читает сама. Я не очень умею общаться с маленькими детьми. Мне это, скажем, не дано. Единственный шанс когда-то почувствовать себя близким ей человеком — это возможность говорить с ней о тех вещах, которые меня волнуют. Если она не начнет читать, я могу не получить этого шанса.
При этом я вижу в ней неординарный ум, а склад этого ума явно филологический. Хотелось бы, конечно, чтобы она использовала эти свои способности. Ну не пропадать же им...
Зачем ребенку читать и зачем это тебе как папе и дедушке?
На вторую часть вопроса я, по-моему, ответил чуть выше. Повторю: мне это нужно, чтобы не чувствовать себя чужим дочерям и внучке. С Майей и тобой, хотя я и вел себя в вашем детстве не лучшим образом, мне повезло. Вы обе умные и талантливые, обе понимаете кое-что в том, что для меня представляет главный в жизни интерес. В лице Лии хочется продолжения этого счастья, причем желательно без тех сложностей, которые были с вами. Но ясно, что сложности все равно будут.
Теперь про то, для чего это нужно ребенку. Тут речь не только о моей внучке, речь о человечестве. Транслирую не мою мысль, просто мысль, с которой я согласен. У людей нет другого варианта воспринимать мир, кроме как через призму доступной им культуры. То есть через тексты. Если человек не понимает, что он прочитал (это касается любых текстов, порождающих образы и создающих картину мира, не обязательно художественных), не может к этому отнестись критически, проанализировать прочитанное, то он очень плохо ориентируется в жизни, его легко обмануть, втюхать ему какую-нибудь ерунду. В результате плохого понимания текстов сбиваются с толку целые народы. Восприятие мира через культуру — чисто человеческая черта. Мне важно, чтобы дети воспринимали мир адекватно. Из нечитающего ребенка я все-таки выросла в читающего взрослого. Хотя есть подозрение что и тогда, в детстве, дела обстояли лучше, чем думали папа и мама. У детей могут быть другие удовольствия, они вообще другие, отдельные люди, и мой отец, перевалив за пятьдесят, это осознал. Конечно, он может опасаться, что станет чужим нечитающей внучке. Правда, это скорее она окажется ему чужой, ведь ей уровень дедушкиной начитанности абсолютно безразличен. Но пока они отлично ладят безо всяких книг. Наверное, потому, что папа, сам того не замечая, за последние двадцать лет почти научился любить без ожиданий и оценок.
1 Березина А. Подросток и книга. Как и для чего читают подростки? URL: https://soc.rgdb.ru/960-2020-11-03.
2 Р. И. Беккер вела в Санкт-Петербургском дворце творчества юных кружок анализа художественного текста, куда я по случайности попала, не поступив там же в кружок журналистики.
3 Речь идет о выпускном исследовании по литературе в 11-м классе.
4 В Комарове находился дом отдыха для писателей, в Горелове — дача писательницы Татьяны Алферовой. Там проходили встречи «Пенсил-клуба» — объединения поэтов и писателей, готовивших к таким встречам тексты «по заданию». В основном создавали пародии, стилизации, основанные на большой литературе.
5 Сборник создаваемых школьниками и бытующих среди них текстов от страшилок до матерных пародий на басни Крылова и стихи Маяковского.
6 Бразильский писатель, автор моей любимой детской книги «Орден желтого дятла».