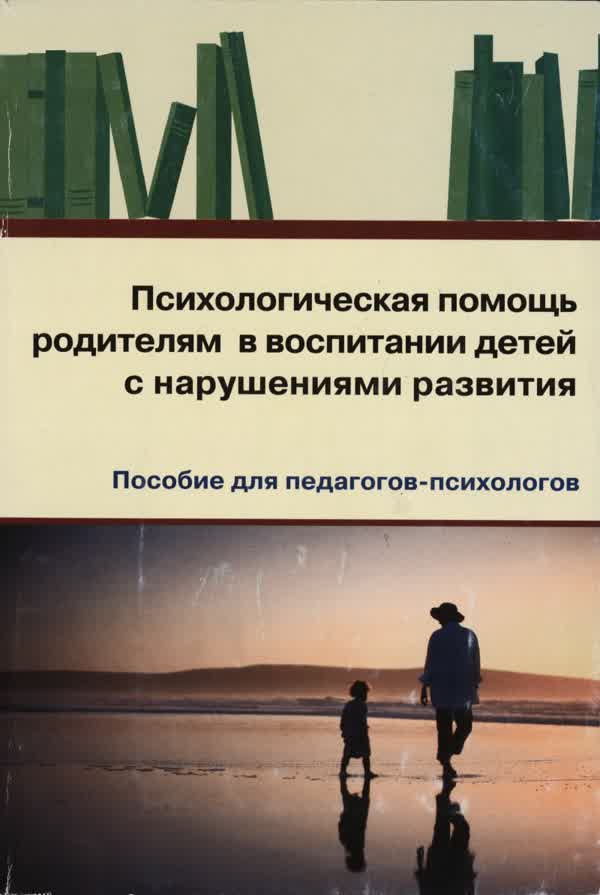
РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ
Групповое движение в нашей стране стало интенсивно развиваться в 90-е годы специалистами в области управленческого консультирования и социально-психологического тренинга. Метод психологической помощи людям, реализуемый через малую группу, оказался чрезвычайно эффективен и потому приобрел популярность.
Метод групповой работы определяют как совместную деятельность людей, которые, работая в группах над решением групповых задач, выбирают направления своей деятельности, средства ее достижения и устанавливают нормы взаимодействия. Для обозначения разнообразных форм групповой работы в настоящее время используется довольно широкий круг терминов: групповая психотерапия, психокоррекционные группы, группы опыта, тренинговые группы, группы активного обучения, практические экспериментальные лаборатории. Подобная ситуация связана с относительной новизной этой области практической психологии и, в очень большой степени, с тем, что подобные группы работают, с одной стороны, на стыке психотерапии и психокоррекции, и обучения — с другой.
Метод групповой работы по К. Рудестаму имеет ряд преимуществ:
■ Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем. Человек избегает непродуктивного замыкания в самом себе со своими трудностями, обнаруживает, что и другие переживают сходное чувство. Для многих людей подобное открытие уже оказывается мощным терапевтическим фактором.
■ Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм. По сути дела в группе моделируются взаимоотношения и взаимосвязи, характерные для реальной жизни участников. Это дает им возможность увидеть и проанализировать в условиях психологической безопасности не очевидные в житейских ситуациях психологические закономерности поведения других людей и самих себя.
■ Возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами. В реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, безоценочную обратную связь, в которой можно увидеть свое отражение в глазах других людей. В группе отлично понимают сущность твоих переживаний, поскольку участники переживают почти то же самое.
■ В группе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров. Тренинговые группы выступают в качестве своеобразного психологического полигона, где можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения, научиться по-новому, относиться к себе и людям.
■ В группе участники могут идентифицировать себя с другими и сыграть роль другого человека для лучшего понимания его и себя, для знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-то. Возникающие в результате этого эмоциональные связи, сопереживание и эмпатия способствуют личностному росту, развитию сознания.
■ Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы каждого. Такое напряжение может (и должно) играть конструктивную роль, подпитывать энергетику групповых процессов. Этот эффект не возникает при индивидуальной психотерапевтической работе. При этом задача ведущего — не дать напряжению выйти из под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе.
■ Группа облегчает процесс самораскрытия, самоисследования и самопознания — открытие себя другим и открытие самого себя позволяет понять себя и повысить уверенность в себе.
К настоящему времени принципы, выдвигаемые представителями различных направлений группового движения, часто противоречат друг другу. Тем не менее, можно выделить идею, объединяющую практически все имеющиеся в практической психологии подходы: изменение, трансформацию человеческого «Я» в изменяющемся мире.
Несмотря на многообразие конкретных форм тренингов по направленности и содержанию, можно сформулировать их общие цели:
■ Исследование психологической проблемы участников группы и оказание помощи в их решении.
■ Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья.
■ Изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективности способов межличностного взаимодействия для создания основы более эффективного и гармоничного общения с людьми.
■ Развитие самосознания и самоисследования участников для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений.
■ Содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха.
Ни одна социальная общность не может существовать без правил, регламентирующих жизнедеятельность людей, составляющих эту общность, обычно нарушение правил вызывает применение определенных санкций к нарушителю. Тренинговые группы также вырабатывают свои собственные нормы, причем в каждой конкретной группе они могут быть специфическими. Выделим те принципы, которые характерны для большинства тренинговых групп:
Здесь и теперь. Этот принцип ориентирует участников на то, чтобы предметом их анализа постоянно были чувства и мысли по поводу событий, происходящих в группе в данный момент. Принцип акцентирования на настоящем способствует глубокой рефлексии участников, учит сосредоточивать внимание на себе, своих мыслях и чувствах, развитию навыков самоанализа.
Искренность и открытость. Чем более откровенными будут рассказы участников о том, что действительно их волнует и интересует, чем более искренним будет предъявление чувств, тем более успешной будет работа группы в целом. Искренность и открытость способствуют получению и предоставлению другим честной обратной связи, т. е. той информации, которая так важна каждому участнику и которая запускает не только механизмы самосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия в группе.
Принцип Я. Основное внимание участников должно быть сосредоточено на процессах самопознания, самоанализа и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена группы должна осуществляться через высказывание собственных возникающих чувств и переживаний. Все высказывания должны строиться с использованием личных местоимений единственного числа: «Я чувствую... », «Мне кажется... » и др.
Активность. Поскольку психологический тренинг относится к активным методам обучения и развития, такая норма как активность, участие всех в происходящем на тренинге, является обязательной.
Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно участников, должно оставаться внутри группы. Это естественное этическое требование, которое является условием создания атмосферы психологической безопасности и самораскрытия.
Помимо указанных норм, особое значение имеет способ обращения участников друг к другу. Общение между всеми участниками и ведущим, независимо от возраста и социального статуса, рекомендуется осуществлять на «ты». Это позволяет создать дружескую и свободную обстановку в группе. Кроме того, всем участникам предлагается выбрать себе на время тренинговой работы «игровое имя» — то имя, по которому все остальные участники обязаны обращаться к участнику. Это может быть реальное имя, детская кличка, институтское прозвище, имя любимого художественного персонажа или любое другое.
Все эти процедуры, создающие особые условия начавшегося взаимодействия, их игровой характер позволяют отчасти снять естественное напряжение и тревогу участников. Нормы тренинговой группы создают особый психологический климат, часто резко отличающийся от того, который имеется в традиционных группах. Участники тренинга, осознавая это, начинают сами следить за соблюдением групповых норм.
Несмотря на разнообразие конкретных упражнений, приемов и техник принято выделять несколько базовых методов тренинга. Это групповая дискуссия и ситуационно-ролевые игры. Ряд исследователей предлагают отнести к числу базовых методов тренинг сензитивности, ориентированный на тренировку межличностной чувствительности, восприятия себя как психофизического единства и включающий техники невербального взаимодействия, которые развивают восприимчивость участников к «языку тела». Кратко охарактеризуем эти методы.
Групповая дискуссия. Это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного общения. В тренинговой группе дискуссия может быть использована и в целях предоставления возможности участникам увидеть проблему с разных сторон, и в качестве способа групповой рефлексии. Дискуссионные методы применяются при анализе практических ситуаций из жизни участников, а также сложных ситуаций межличностного взаимодействия, предлагаемых ведущим.
Игровые методы. Включают ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, организационно-деятельностные, имитационные и деловые игры. Использование игровых методов в тренинге чрезвычайно продуктивно. На первой стадии групповой работы игры полезны как способ преодоления скованности и напряженности участников, как условие безболезненного снятия «психологической защиты». Очень часто игры становятся инструментом диагностики и самодиагностики, позволяющим ненавязчиво, мягко обнаружить наличие трудностей в общении и серьезных психологических проблем. Благодаря игре интенсифицируется процесс обучения, закрепляются новые поведенческие навыки, обретаются способы оптимального взаимодействия с другими людьми, тренируются и закрепляются вербальные и невербальные коммуникативные умения.
Методы социальной перцепции. Участники группы развивают умения воспринимать, понимать и оценивать других людей, самих себя, свою группу. С помощью специально разработанных упражнений участники получают вербальную и невербальную информацию о том, как их воспринимают другие люди, а также насколько точно их собственное самовосприятие. Они приобретают умения глубокой релаксации, смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия.
Медитативные техники. Чаще всего используются в целях обучения физической и чувственной релаксации, умению избавляться от излишнего психоэмоционального напряжения, стрессовых состояний и в результате сводятся к развитию навыков аутосуггестии и закреплению способов саморегуляции.
Метод групповой работы в детско-родительской терапии. Структура родительской терапии сочетает профессиональные умения и особенности групповой динамики со способностью родителей творчески подходить к удовлетворению потребностей ребенка. Это позволяет организовать процесс родительского тренинга, который, с одной стороны, дает родителям возможность пережить волнующий опыт, а с другой — аффективным образом влияет на изменения в их поведении.
По мнению В. Сатир, групповая работа с родителями имеет ряд преимуществ:
• Впервые в жизни родители получают возможность обсудить значимые семейные отношения без морализирования. Они исследуют право людей испытывать как положительные, так и отрицательные чувства. Они начинают осознавать существование в себе самих и в своих детях внутреннего мира чувств и значимость этого мира в создании и разрушении счастья. Они голосуют за новую свободу — свободу чувствовать.
• Родители идентифицируют себя с ведущим, и подражают некоторым его характеристикам и отношениям. Они наблюдают, что он с уважением выслушивает любое мнение, что он принимает проявления враждебности без мести, и тоже стремятся развивать способность переносить враждебность в себе самих и своих детях. Они приходят к пониманию того, что враждебность — это не проблема, а состояние человеческого существования, что здоровая семья создает условия для выражения негативных эмоций, которые никого не ранят.
• Родители осознают значение безоценочного принятия и подлинного уважения. Они становятся более чувствительными к тому, как дети выражают свои отношения, учатся принимать и осознавать, а не отвергать и отрицать беспокоящие их чувства.
• Родители развивают более оптимистическое отношение к жизни с детьми. Они начинают верить в то, что эмоциональные проблемы можно обсудить в беседе, а эмоциональные трудности разрешимы.
Поскольку родители являются частью социального и психического развития детей, их положение уникально: они могут способствовать позитивному развитию своего ребенка. При наличии соответствующего обучения родители способны стать психотерапевтическими агентами в жизни детей. Об этом свидетельствуют и результаты психологических исследований. Так, Стовер и Гуэрни, оценивая возможность обучения матерей приемам родительской терапии, обнаружили, что обученные таким образом матери существенно чаще пользуются предложениями рефлективного типа и реже — директивными указаниями по сравнению с матерями, не прошедшими такой курс обучения. В другом исследовании авторы сообщают, что дети матерей, обучавшихся на семинарах по родительской терапии, значительно улучшили разного рода симптоматические показатели и способы взаимодействия с окружающими.
Применение такого подхода, как использование родителей в роли психотерапевтических агентов, существенно улучшает самооценку детей, повышает социальную адаптацию и способность их к обучению, а также оптимизирует взаимодействие в семье. Кроме того, родительская терапия существенно усиливает чувство безусловной любви родителей к своим детям и значительно снижает чувствительность родителей к возникновению конфликта в семье. Изменения у детей включают также позитивные изменения в коммуникации, увеличение ответственности за свои действия, снижение замкнутости и агрессивного поведения. К изменениям у родителей можно отнести уверенность в себе и снижение уровня родительского контроля.
Таким образом, родительские группы — это эффективное средство формирования позитивного отношения родителей к ребенку, установления разумных родительских требований и контроля, уменьшения родительской тревоги, просвещения родителей в области психологии ребенка.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Проблема детских неврозов, их профилактики и коррекции является одной из ключевых в теории и практике детской психотерапии, поскольку распространенность нарушений данного круга велика и охватывает все слои населения. В условиях современной российской действительности указанная проблема представляется нам еще более актуальной, так как характерное для последних десятилетий снижение уровня жизни (как в материальном, так и в духовном аспектах) выступает в качестве фактора, способствующего возникновению и развитию разного рода психических расстройств.
Наиболее полно и подробно патогенетическая концепция неврозов представлена в работах В. Н. Мясищева (1995) и его последователей. Именно эта концепция является общепринятой и лежит в основе большинства психотерапевтических программ по профилактике и терапии невротических расстройств. Рассмотрим некоторые положения концепции В. Н. Мясищева.
Так, в работах исследователей, принадлежащих к школе В. Н. Мясищева, невроз рассматривается как психогенное, конфликтогенное расстройство, возникающее при нарушении системы наиболее значимых отношений в жизни личности. Примечательно, что это нарушение не ведет к резкому снижению адаптации индивида или к грубым психическим расстройствам, которые сразу стали бы заметны окружающим. Трудность обнаружения невроза как раз и заключается в том, что он развивается «исподволь» и впоследствии уже выраженные симптомы не обнаруживают ни малейшей связи с причинами, его вызвавшими. Также затруднения в работе с детскими (да и взрослыми) неврозами вызваны тем, что реальные их причины кроются во внутренних конфликтных переживаниях личности, а проявления (симптомы) во внешнем плане размыты, многообразны и входят в клиническую картину множества детских расстройств. Кроме того, зачастую трудности коррекции и профилактики неврозов связаны именно с проблемой их своевременной и точной диагностики. В связи с этим особое значение для психокоррекционной работы имеет выявление невротической симптоматики уже на ранних этапах ее развития, когда диагностика этиологии не представляет неразрешимой проблемы, а сам конфликт еще не «оброс» защитными ригидными образованиями и доступен проработке.
Таким образом, большое значение в работе практикующего психолога приобретает тщательный анализ невротической симптоматики ребенка, на устранение которой направлены первые коррекционные воздействия специалиста, и всестороннее изучение глубоких внутренних составляющих конфликта, которые и являются истинным объектом терапии. Целесообразно проанализировать названные составляющие невротического расстройства более подробно.
Факторы возникновения и развития детских неврозов. В первую очередь рассмотрим основные причины детских неврозов. Индивидуальная система отношений, которая оказывается патологически измененной при неврозе, формируется только в процессе межличностного взаимодействия. Очевидно, что при работе с невротическими расстройствами основное внимание должно уделяться глубокому и всестороннему исследованию именно тех сфер личности, которые влияют на формирование и развитие патологической системы отношений. Неврозы, являясь психогенным заболеванием, проявляются на психологическом уровне и нарушают работу всех сфер личности и межличностного взаимодействия. С другой стороны, суть расстройства заключается в том, что конфликтное, противоречивое отношение ребенка к определенным сторонам действительности, перерастает в конфликтное строение его собственного Я и, уже вторично, приводит к нарушению адаптации ребенка в социуме.
Рассматривая проблему этиологии детских неврозов, особое внимание следует уделять особенностям семейных отношений, поскольку именно в семье закладываются основы устойчивых форм поведения ребенка, формируются особенности и характер взаимодействия с окружающим миром. А. И. Захаров отмечает, что ведущий психогенный фактор невротизации детей связан с неблагоприятным воздействием со стороны родителей, которое заключается во фрустрации наиболее значимых потребностей развития (потребность быть самим собой, самовыражаться, а также потребности в поддержке, любви и признании). Подобная фрустрация, как правило, выступает в качестве хронической психотравмирующей ситуации и приводит к возникновению внутреннего конфликта, который становится источником хронического эмоционального напряжения.
Описаны характерные условия неправильного воспитания, т. е. травмирующие ситуации в семье, которые провоцируют возникновение невротических расстройств определенного типа — прежде всего, истерического и астенического, а также синдрома навязчивых состояний. Так, дети, впоследствии страдающие истерическим неврозом, как правило растут в обстановке изнеживающего воспитания, неоправданного подчеркивания существующих и несуществующих достоинств, пребывают в атмосфере вседозволенности и потакания любым желаниям. В этом случае у ребенка формируется неадекватно завышенный уровень притязаний, отсутствует критичность по отношению к себе, а от окружающих требуется то же безоговорочное обожание, что и от родителей.
Формированию невроза навязчивых состояний способствует неправильное воспитание в условиях чрезмерной опеки, подавления самостоятельности и инициативы ребенка из-за чрезмерной озабоченности родителей его безопасностью и благополучием. В результате ребенок всего боится, неуверен в себе, мнителен и тревожен, что со временем приводит к развитию замкнутости, боязливости и навязчивому «застреванию» на одних и тех же мыслях и действиях.
При возникновении неврастенического расстройства одним из главных патологических факторов семейного воспитания является предъявление ребенку чрезмерно высоких требований и задач, когда родители постоянно стимулируют нездоровое стремление ребенка к успеху без учета его реальных сил и возможностей. Подобное нарушение воспитания называют делегирующим типом воспитания, поскольку такие завышенные требования к ребенку проистекают из неудовлетворенности личных амбиций самих родителей, которые пытаются реализовать собственные потребности в достижении какой-либо цели через достижения этой цели своими детьми. Такой тип воспитания приводит к развитию у детей слабости, нерешительности, зависимости от окружающих, стремления получить их одобрение. Дети с неврастенией отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью и истощаемостью, наиболее ярко их характеризует болезненная требовательность к себе и такая же патологическая неудовлетворенность собой.
Кроме описанных типов нарушений семейного воспитания, на возникновение и развитие невротических расстройств в семье оказывают влияние эмоциональная холодность, отстраненность родителей, отсутствие с их стороны принятия и понимания собственного ребенка (т. е. постулирование ценности формальной стороны воспитания). Понятно, что еще более негативные последствия будет иметь жестокое отношение к детям, жесткое авторитарное воспитание и подавление их личности со стороны родителей. Также причиной формирования невротических расстройств у детей являются длительно действующие стрессовые ситуации, связанные с нарушением супружеских отношений в семье (конфликты между родителями, ссоры, насилие, последствия алкогольной зависимости кого-либо из членов семьи и т. п.).
Таким образом, как следует из представленного анализа, основной причиной возникновения детских неврозов является именно патогенная семейная ситуация (как нарушения семейных отношений в целом, так и дисгармоничность семейного воспитания).
Кроме того, ситуация может усугубляться острыми психическими травмами (испуг, оскорбление ребенка, развод родителей и т. д.). В этом случае обостряется и без того повышенная эмоциональная чувствительность, снижается адаптивная способность психики ребенка и отрицательные внешние воздействия, которые в другом случае постепенно забылись бы, занимают центральное место в переживаниях.
Другой предпосылкой формирования невротических расстройств являются особые (преморбидные) свойства личности ребенка. Как показывают специальные исследования в этой области, дети, демонстрирующие невротическую симптоматику, изначально отличаются такими чертами, как высокая тревожность, постоянное беспокойство, повышенная эмоциональность. Такие дети склонны принимать все «близко к сердцу», легко расстраиваться и волноваться, они ранимы и обидчивы, отличаются выраженным чувством «Я». В психологической литературе, посвященной изучению детских неврозов, указанные особенности носят название преневротических патохарактерологических радикалов.
Таким образом, основными факторами, приводящими к возникновению неврозов в детском возрасте, являются следующие причины: дисгармония семейного воспитания, нарушение семейных отношений, психическая травма, преневротические патохарактерологические радикалы.
Характеристика внутриличностного невротического конфликта в детском возрасте. В формировании невроза определяющую роль играет внутренний конфликт — столкновение в сознании ребенка противоположно окрашенных отношений к близкому лицу или создавшейся ситуации. Наиболее значимыми считаются следующие виды конфликтов: противоречие желаний личности и условий объективной реальности, а также возможностей человека и требований действительности; противоречивость отношения к значимому другому (амбивалентность чувств); противоречие рациональных установок и личностного отношения. Очевидно, что в зависимости от типа невротического конфликта, его содержания и особенностей развития в дальнейшем будет определяться характер и направление коррекционной работы.
Наиболее известная классификация конфликтов в контексте внутриличностной природы их развития и механизмов формирования разработана В. Н. Мясищевым. В нее входят три вида конфликтов: истерический, обсессивный и неврастенический.
Истерический тип характеризуется противоречием между желанием превосходства и страхом неудачи, эгоцентризмом и страхом отвержения. Как правило, завышенные претензии сочетаются с недооценкой или полным игнорированием реальных обстоятельств. У детей с таким типом конфликта снижена критичность по отношению к своим поступкам, а требовательность к окружающим значительно превышает требовательность по отношению к самому себе. Следствием их аффективности и эгоцентризма являются частые и обостренные переживания неудач в общении (как со сверстниками, так и со взрослыми), которые приводят к возникновению, с одной стороны, претенциозности, а с другой — развитию неуверенности. В результате у ребенка формируются такие черты, как лживость, театральность и демонстративность. Для достижения поставленной цели им используются различные уловки и ухищрения, способы достижения желаемого часто оцениваются только с точки зрения эффективности, вопрос моральной приемлемости часто игнорируется.
Обсессивный тип внутриличностного конфликта характеризуется противоречием между желаниями и моральными принципами, стремлениями личности и долгом, чувством ответственности. Если одна из этих тенденций доминирует, но встречает сопротивление со стороны другой, то возрастает вероятность усиления нервно-психического напряжения и развития невроза. Особое значение имеет противоречивость требований родителей, поскольку какое бы требование ребенок не выполнял, в результате он все равно окажется неправым и виноватым. Подобные ситуации являются благоприятной почвой для развития чувства неуверенности в себе, неполноценности, а также формирования противоречивых жизненных отношений и нереалистичных установок.
Третий тип конфликта — неврастенический — характеризуется противоречием между реальными возможностями личности и ее стремлениями и желаниями. Такие характеристики личности, как слабость и нерешительность, развиваются вследствие переживания череды неудач в достижении нереальных целей. Стремление к успеху без учета возможностей приводит к постоянному поиску поддержки и одобрения, зависимости от окружения и стремлению к нормативности.
А. И. Захаров указывает, что в основе конфликта лежит противоречие между желанием ребенка войти в референтную группу (сначала это семья, затем группа сверстников) и отсутствием возможности реализовать это желание, т. е. несоответствие воспитания потенциалу ребенка и опыту формирования «Я-концепции». Характерно, что внутриличностный конфликт, который в целом можно представить проблемой «быть собой среди других», в динамическом аспекте преломляется более частными проблемами и страхами, как формами его проявления. Проблема «быть», т. е. жить, существовать вообще, превращается в страх «не быть», что в максимальном значении означает «быть ничем» — «мертвым» (характерно для невроза страха). Проблема «быть собой» обращается страхом изменения Я, т. е. «не быть собой» (при неврозе навязчивых состояний). Проблема «быть собой среди других» принимает форму страха «быть никем» при истерическом неврозе, а проблема «быть среди других» переживается в виде страха «быть не тем» при неврастении.
При дальнейшем развитии конфликта основной проблемой становится согласование двух тенденций — «быть собой» и «быть среди других». Противоречие указанных тенденций обостряется существованием противоположно направленных страхов: «быть только собой» и «быть только другим».
Подобная внутренняя позиция, носящая противоречивый, несогласованный характер, и основанная на страхе изменения «Я», препятствует развитию эмпатии, способности принимать новые роли, что в свою очередь приводит к ригидности поведения, трудностям в процессе общения и появлению «псевдо-Я» как совокупности патологических, не поддающихся контролю со стороны сознания мотивов.
Личностные особенности детей с невротическими расстройствами. Как мы уже отмечали, коррекционная работа с детскими неврозами прежде всего предполагает диагностику их причин и анализ психологических особенностей ребенка, которые были сформированы или усугубились под влиянием невротических тенденций. Б. Д. Карвасарский подчеркивает, что традиционно целями и задачами, которые решались в рамках патогенетической концепции неврозов (школа В. Н. Мясищева), являлось глубокое и всестороннее изучение личности больного, особенностей его эмоциональной сферы, системы мотивов, а также специфики формирования, структуры и функционирования его системы отношений. С другой стороны, как выяснилось в результате исследований, проведенных отечественными психологами (систематизированных А. С. Спиваковской), для детей, страдающих невротическими расстройствами, характерны определенные симптомы нарушения, которые отличают их от здоровых сверстников. Мы предлагаем остановиться на их описании более подробно, поскольку данные признаки часто являются первыми проявлениями формирующегося (или уже сформировавшегося) невроза и служат важными диагностическими критериями как для психолога, так и для родителей и педагогов. Ниже будут изложены психологические особенности аффективной, волевой, мотивационной сфер детей, страдающих пре-невротическими и невротическими расстройствами, а также характерные черты их самосознания и наиболее типичные поведенческие реакции.
Аффективная сфера. Дети описываемой группы имеют серьезные нарушения эмоциональной сферы. Невозможность реализовать сильнейшую потребность в любви и привязанности приводит их в состояние постоянного эмоционального дискомфорта и напряжения. Им свойственна повышенная тревожность и устойчивые страхи (быть покинутым, отвергнутым, страх наказания и агрессии). Внешне это выражается в повышенной возбудимости, импульсивности, легкости возникновения аффекта. Часто это провоцирует агрессивное поведение таких детей и подростков, враждебность и несдержанность в проявлении чувств. Другой вариант эмоциональных нарушений при неврозах — сниженный эмоциональный фон, замкнутость, угрюмость, подавленность, излишняя боязливость.
Волевая сфера. В силу невротического характера привязанности к родителям, дети с описываемыми расстройствами не стремятся к самостоятельности, не хотят выходить из-под опеки взрослого, т. е. не испытывают тех желаний, которые обычно свойственны дошкольникам в норме. Такая зависимость ребенка от взрослого задерживает формирование произвольности поведения, механизма самостоятельной оценки своих поступков в соответствии с образцами. В результате дети демонстрируют неадекватные попытки самоутверждения, которые проявляются в негативизме, аффективных вспышках, эгоцентризме и иных неадаптивных формах поведения. Таким образом, можно говорить о незрелости волевых механизмов регуляции поведения и нарушении развития волевой сферы в целом.
Мотивационная сфера. Проблемное развитие мотивационной сферы ребенка, страдающего невротическим расстройством, прежде всего, связано с наличием в ее структуре невротической потребности. Как известно, потребность может быть названа невротической, если ее характеризуют такие специфические черты, как ненасыщаемости и доминирующий, подавляющий характер. Мы уже отмечали, что дети с неврозами, как правило, страдают от невозможности удовлетворить потребность в любви и привязанности, которая и приобретает невротический характер. Так, ребенок с указанным внутриличностным конфликтом не способен почувствовать удовлетворение даже от яркой демонстрации любви и заботы, поскольку она всегда кажется ему недостаточной и требуются все новые и новые доказательства тому, что он нужен и любим близкими людьми (в этом заключается ее ненасыщаемость). Поскольку данная потребность постоянно актуализирована, она блокирует другие мотивационные тенденции ребенка (т. е. доминирует, стоит «во главе угла»). В результате иерархия мотивов имеет отличное от нормы строение, она ригидна и лишена возможности обеспечивать нормальное функционирование личности. Искаженным является и содержание мотивационной сферы: у детей с невротическим вариантом развития в дошкольном возрасте задерживается формирование нравственных (общественных) мотивов, которые призваны регулировать поведение в рамках социальных норм и правил, способствовать благополучной социализации ребенка и создавать предпосылки для становления зрелой личности. Вместо этого детьми продолжают руководить мотивы самоутверждения, сохранения положительных отношений со взрослыми (прежде всего с родителями), что характерно для детей более младшего возраста. В силу этого, страдает и механизм соподчинения мотивов, которые отличаются нестойкостью, наличием множества противоречивых тенденций.
Можно сказать, что мотивационная сфера ребенка в результате невротизации определенных потребностей отличается нарушением иерархии и соподчинения мотивов, а также задержкой формирования ряда важных (общественно значимых) мотивационных образований.
Сфера самосознания. Сложности развития благополучного самосознания при невротизации личности связаны, как правило, с тем, что дети не способны правильно осознать и оценить собственные качества (достоинства и недостатки). Поскольку искажено понимание причин того или иного отношения к ним со стороны окружающих, у ребенка не складывается и собственная система оценок своей личности. Самооценка в этом случае приобретает конфликтное строение. С одной стороны — ребенок неуверен в себе, не знает своих «сильных сторон», так как постоянно сомневается в том, что он любим и нужен. С другой стороны (вероятно, в силу невротической компенсации) — для него свойственен завышенный уровень притязаний. Наиболее информативны в отношении выявления подобных личностных противоречий проективные тесты исследования. Так, анализ рисунка «Трех Я» позволяет выявить расхождение между реальным образом Я (отвергаемым, незначительным) и идеальным, желаемым Я (красивым, успешным, значимым). При этом часто в изображении Я-социального (т. е. Я «для других»), дети склонны представлять такой же желаемый образ — привлекательный для родителей. Таким образом, как видно из приведенных выше особенностей, самооценка ребенка в преневротическом или невротическом состоянии противоречива и конфликтна, что отражает, на наш взгляд, общую характеристику невроза.
Конфликтность восприятия действительности приводит к тому, что ребенок не имеет возможности создать целостную и устойчивую «Я-концепцию». Первоначально эта дезинтеграция связана с внешними трудностями функционирования — ребенок чувствует, что не может одновременно соответствовать ожиданиям родителей и оставаться самим собой (позже то же начинает относиться и к требованиям сверстников). Как отмечает А. И. Захаров, подобный неудачный опыт межличностных отношений приводит к возникновению как бы двух Я в структуре «Я-концепции». С одной стороны формируется собственное компенсаторно гипертрофированное Я, подаваемое ребенком с позиции эгоцентризма, болезненного самолюбия; с другой стороны, пытаясь адаптироваться, ребенок создает второе не-Я, которое отвечает установкам и требованиям других, но не соответствует установкам и возможностям самого ребенка. Подобное отсутствие единства представлений о себе ведет к потере индивидуальности и самоценности, переживанию ребенком неопределенности и неуверенности в себе, которые порождают страх изменений, потери своего Я. Применительно к разным видам неврозов эти переживания варьируются от страха потери Я, лежащего в основе синдрома навязчивых состояний, до страха «быть никем» при неврастении и истерическом неврозе.
Следует отметить, что подобные особенности самосознания сочетаются с неадекватными средствами психологической защиты. Ребенок, страдающий неврозом, не использует эффективные способы компенсации в случае неудачи, предпочитая либо уход без борьбы, либо агрессивное поведение. Такая тактика весьма характерна при высоких притязаниях и неуверенности в себе, и приводит к тому, что расхождение усиливается и закрепляется, неуспех переживается ребенком более болезненно, и внешняя конфликтная ситуация переходит в новый внутренний конфликт.
Таким образом, обобщая сказанное выше, следует подчеркнуть, что неудовлетворенность ребенка собой и отсутствие четких представлений о своем Я, приводит к навязчивой тенденции постоянно опасаться «нападения», подозревать окружающих в стремлении причинить ему вред. Как показывает наш опыт работы с подобными детьми, именно такие нарушения самосознания являются причиной враждебности, негативизма, замкнутости и недоверчивости.
Особенности игровой деятельности. Игровая деятельность детей с неврозами отличается как особым содержанием и сюжетом, так и своим функциональным значением. В силу нарушенных межличностных отношений ребенок навязчиво воспроизводит в игре одни и те же значимые переживания и ситуации. Можно заметить, что эта же особенность игровой деятельности является одним из наиболее ярких признаков посттравматического стрессового расстройства, что создает трудности диагностики и дифференциации нарушений. В связи с этим важно помнить, чем наполнена игра при невротическом расстройстве. Прежде всего, необходимую информацию о психологических трудностях ребенка должен дать анализ сюжета игры. Как правило, дети с невротическим расстройством предпочитают играть в одиночку, не вступая в сюжетно-ролевую игру с другими детьми. Им достаточно собственных действий и реплик, которые совершаются от лица всех персонажей. Отмечается, что в таких играх дети склонны воспроизводить либо эмоционально насыщенные переживания о себе самом, своем Я, либо темой игры являются конфликтные отношения — в большинстве случаев, с родителями. Содержание игр на эти темы представляет собой однообразное, стереотипное проигрывание ситуаций, которые уже происходили с ребенком и явились источником его конфликтных неразрешенных переживаний. Например, одна девочка в течение всего диагностического этапа работы (3—4 встречи) в каждой игре совершала одни и те же игровые действия: уходила «гулять» и нарушала мамин запрет, после чего, исполняя роль матери, сама себя жестоко наказывала. Как видно из этого примера, в игре отражался непосредственный конфликт, связанный с жестким воспитанием. В других случаях дети склонны выбирать для игры сюжеты о самом себе, что обычно и отражает специфику их дезадаптации. Это игры на темы, которые условно могут быть названы «Я — агрессор», «Я — изгой», «Я — большой» и т. п. Однако, несмотря на то, что игра призвана снижать тревогу ребенка, способствовать осознанию и проработке проблем, такие игры не выполняют указанную функцию психологической защиты. Вернее сказать, эта защита неадекватна, поскольку ребенок полностью погружается в травмирующие переживания и ригидно воспроизводит одни и те же ошибки, лишаясь возможности оценить отношения по-другому и найти новый эффективный способ взаимодействия.
Сфера социальных отношений. Очевидно, что все перечисленные выше нарушения нормального функционирования детей, страдающих неврозами, неизбежно влекут за собой достаточно серьезные нарушения социальных взаимоотношений. Конфликтность и противоречивость, характерная для всех внутренних проявлений таких детей, присуща и их поведению в группе. Исследователи отмечают, что дети с невротическими проявлениями часто становятся либо непопулярными членами группы, либо отвергаются другими детьми из-за своей агрессивности и конфликтности. Нельзя сказать, что ребенок-невротик не испытывает потребности в социальных контактах и общении со сверстниками, но, как и в отношении восприятия действительности в целом, оценка ребенком поступков, слов и намерений сверстников неадекватна и исходит из его невротических страхов и противоречий. Он стремится к общению и взаимодействию, но опасается неудачи, переживания неуспеха, которые в силу невротической уязвимости Я вызывают гораздо более болезненные и разрушительные последствия, чем при нормальной психологической защите. В результате такого страха дети либо избегают контакта, либо провоцируют конфликт и сами разрушают отношения агрессивностью. Подобное поведение вызывает негативное отношение к ним других детей, что уже вторично является причиной нарушения коммуникативных связей. Такие личностные особенности детей с неврозами, как отсутствие стремления к компромиссу, мнительность, недоверчивость, сложность понимания и принятия позиции другого человека значительно затрудняют установление и поддержание ими благополучных отношений с окружающими.
Психологическая помощь детям с невротическими расстройствами
Как уже отмечалось, механизмы возникновения невротических расстройств являются психологическими, а, следовательно, требуют и психологических методов коррекции. Надо отметить, что терапевтические воздействия, применяемые в программах работы с неврозами базируются на фундаментальных положениях отечественной психологии. Так, прежде всего, работать над невротическим расстройством, вызванным нарушением системы отношений, целесообразно только при условии включения в эту работу не только самого ребенка, но и участников этих отношений (членов его семьи и сверстников). Кроме того, коррекция должна осуществляться в русле ведущей деятельности, поскольку только в этом случае возможно управление процессом развития.
Весь объем терапевтической работы, направленной на коррекцию невротических расстройств, можно условно разделить на три направления. Это работа с ребенком, с родителями и работа детско-родительских групп. Мы употребляем понятие «условно», поскольку психокоррекционный процесс носит системный, комплексный характер, и подобное выделение направлений работы необходимо для того, чтобы дать более полное представление о специфике каждого из составляющих терапевтического процесса, выделить конкретные цели, достигаемые на каждом этапе. При работе с невротическими расстройствами особое внимание следует уделить форме проведения занятий. Несмотря на то, что очевидна необходимость включения ребенка в социальные интеракции (так как в основе невроза лежит нарушение наиболее значимых отношений), предшествующим этапом должна быть индивидуальная проработка основы расстройства — внутриличностного конфликта. Только в случае проведения с ребенком полноценной индивидуальной работы, отреагирования и осознания им негативных переживаний, связанных с конфликтом, групповая форма работы поможет реализовать поставленные психологом цели. При работе с родителями такой выраженной необходимости в индивидуальной работе нет, поскольку именно участие в групповых занятиях, дающее возможность опереться на чужой опыт и поделиться своим, позволяет добиться предполагаемого коррекционного эффекта. Раскроем содержание каждого из указанных направлений.
Работа с родителями. Целью психологического консультирования членов семьи является оптимизация внутрисемейных отношений через принятие родителями адекватных ролевых позиций по отношению к ребенку и друг к другу, обучение родителей навыкам налаживания контакта с ребенком.
В комплексе терапевтических воздействий, направленных непосредственно на родителей, следует выделить два этапа: установочный и собственно коррекционный. Целями установочного этапа являются: снятие тревожности, вызванной переживанием семейного кризиса, создание активной установки на психокоррекционную работу, формирование мотивов самопознания и самосовершенствования, а также повышение уверенности в позитивном результате терапии. Цели коррекционного этапа выглядят следующим образом:
• расширение знаний о психологии семейного воспитания;
• гармонизация супружеских отношений;
• расширение сферы осознанности мотивов воспитания;
• изменение родительских установок;
• расширение репертуара родительских ролей.
Эти цели могут быть реализованы с помощью различных методов (отметим, что некоторые методы — например, игра — полифункциональны, т. е. решают сразу несколько задач). К методам, используемым в этом направлении работы, относятся: ведение дневниковых записей с их последующим анализом, метод «Родительское собрание» и «Родительский семинар», психодраматическое разыгрывание ситуаций взаимодействия с ребенком в семье или конфликтных супружеских отношений, психогимнастика.
Работа с ребенком. Содержательно коррекционный процесс, направленный на терапию невротического расстройства, представляет собой создание у ребенка нового, позитивного опыта социальных отношений. Для того, чтобы эта установка была реализована, необходимо выделить и осуществить ряд более конкретных задач:
• налаживание между психологом и ребенком доверительного, эмоционально насыщенного контакта;
• отреагирование негативных переживаний, связанных с внутриличностным конфликтом;
• развитие навыков общения, преодоление эгоцентризма, расширение сферы осознания своих проблем;
• разрушение патологических стереотипов поведения;
• формирование новых, более адекватных форм взаимодействия с окружающими.
В качестве основного метода работы с детьми дошкольного возраста выступает игра, поскольку именно она является ведущей в данный период. Надо отметить, что игра как терапевтический метод остается эффективной и при работе с детьми младшего школьного возраста. Именно в игровой деятельности приобретается необходимый опыт новых отношений с окружающими, основанный на уважении, признании авторитета и самоценности ребенка. На занятиях детям предлагается большой выбор сюжетно-ролевых игр и специальные игры-драматизации («Василиса Прекрасная», «Терем-теремок», «Колобок», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка»), В настоящее время существует множество направлений коррекции, в числе которых собственно игровая терапия, арт-терапия, телесноориентированная терапия, психодрама, футуропрактика и т. д. Однако, исходя из нашего опыта, наиболее эффективной и, что немаловажно, привлекательной для детей, является именно игровая терапия с элементами психодрамы.
Игры подбираются в соответствии с коррекционными задачами и отличаются большим разнообразием: «Мальчик/девочка наоборот», «Паровозик», «Изображение предметов/ животных», уже упоминавшиеся сюжетно-ролевые игры. В некоторых случаях дети сами предлагают игры, которые затем входят в коррекционную программу. Так, например, ребенок, страдающий неврозом, в основе которого лежало амбивалентное отношение к матери, в течение нескольких занятий предлагал психологу поиграть в дочки-матери, что и послужило впоследствии основой для проработки внутриличностного конфликта и снижения интенсивности невротических проявлений. В другом случае психологом были созданы специальные условия для коррекции агрессивного отношения ребенка к авторитарной матери — в течение трех занятий девочка участвовала в игре-драматизации «Золушка», после чего, отреагировав в «сказочной» ситуации запретные негативные чувства, стала более открытой, уравновешенной и доброжелательной как по отношению к сверстникам, так и в общении с матерью.
Следует заметить, что наряду с психодрамой большое значение в коррекционном процессе приобретают специальные приемы неигрового типа, способствующие реализации конкретных задач («ритуальные действия», групповые решения, усиление понимания, интерпретация, убеждение и т. д.).
Работа в детско-родительских группах. Эффективность коррекционной работы на этом этапе во многом зависит от того, насколько полноценной и продуктивной была работа в русле двух предыдущих направлений. Успешная терапия невротического расстройства возможна только при условии совместной деятельности родителя и ребенка, но в качестве подготовительного этапа необходимой является работа в родительских группах, а также индивидуальные и групповые занятия с детьми. В целом терапия детско-родительских отношений рассматривается как коррекционное воздействие на структуру отношений между родителями и детьми со следующими целями:
• формирование позитивных, эмоционально насыщенных представлений родителей и детей друг о друге;
• тренинг воспитательных навыков родителей;
• формирование новых способов взаимодействия детей и родителей;
• закрепление позитивных форм детско-родительского взаимодействия.
Как видно из названия направления, сущность работы с семьей в данном случае заключается в совместной деятельности. А виды деятельности, в русле которых будет происходить коррекционное воздействие, определяются в зависимости от особенностей участников терапевтического процесса. Методы воздействия многообразны и подбираются в зависимости от личностных особенностей участников группы и поставленных задач. Главное, что использоваться должны методики, одинаково эффективные как для взрослых, так и для детей. Например, использование приемов сказкотерапии, групповое сочинение истории с последующим разыгрыванием сюжета, рисование, сочинение сказки по картинке. Игротерапия (уже упоминавшиеся сюжетно-ролевые игры, использование элементов психодрамы), арт-терапия (работа с рисунком, с глиной, с гримом и т. д.), психогимнастика — все эти направления могут быть использованы в работе детско-родительских групп.
Одним из важных направлений работы психолога является консультативная работа с родителями. Приведем некоторые рекомендации для родителей, чьц дети страдают невротическими расстройствами.
Психологические рекомендации для родителей
Необходимо заметить, что содержание рекомендаций зависит от вида невротического расстройства и особенностей семейного воспитания. Однако при различных видах неврозов и в разных семейных ситуациях основные рекомендации, даваемые родителям, обязательно должны касаться следующих аспектов детско-родительского взаимодействия:
— Прежде всего, важно искреннее, доброжелательное отношение к ребенку, мягкость и чуткость в процессе общения;
— Необходимо развивать умение встать на позицию ребенка, увидеть ситуацию его глазами. Для этого родителям полезно вспомнить свой прошлый опыт: не исключено, что они обнаружат схожие проблемы и невысказанные обиды в своем детстве. Возможно, это поможет им понять своего ребенка, определить причины его, казалось бы, необоснованных поступков;
— Важно обеспечить доверительность отношений, проявлять интерес к внутренней жизни ребенка и тем самым помогать ему поделиться тревожащими его переживаниями и страхами;
— Следует исключить из общения высказывания, которые подразумевают негативную оценку личности ребенка. Порицание должно высказываться только относительно конкретного поступка, вызвавшего недовольство (например, следует сказать «Ты недостаточно чисто вымыл тарелку», а не «Ты грязнуля и неряха!»);
— Крайне важно избегать отрицательного сравнения ребенка со сверстникам и оценочных высказываний (например, «Вот Дима — хороший мальчик (хороший сын), а ты — плохой»);
— Необходимо хотя бы иногда говорить ребенку о том, что он любим таким, какой он есть — со всеми достоинствами и недостатками. Не бояться часто выражать свое одобрение, хвалить его за какое-либо достижение, хорошую оценку или помощь по дому. Важно дать ему почувствовать, что им гордятся.
Далее мы предлагаем рекомендации, которые касаются конкретных вопросов взаимодействия и воспитания ребенка, и предполагают различные подходы к построению отношений в зависимости от типа невротического нарушения.
Важным шагом по решению проблемы является осознание целей осуществляемого воспитания, мотивов, которыми осознанно или неосознанно руководствуются родители. Самим родителям следует задуматься, не сказываются ли на их действиях такие родительские позиции и установки, как:
— воспитание является единственным смыслом жизни, а все остальное подчинено только ему (проявляется в том, что родитель постоянно испытывает страх перед самостоятельностью ребенка, выражает уверенность в том, что с взрослением ребенка жизнь потеряет смысл);
— воспитание как реализация собственной потребности в достижениях через достижения ребенка (проявляется в том, что родители буквально заставляют ребенка делать то, в чем сами когда-то пытались добиться высоких результатов);
— воспитание как сверхценная идея развития у ребенка определенного желаемого качества (например, абсолютной доброты или «твердости духа», либо традиционно женских качеств у мальчика — «хозяйственности»);
— воспитание ребенка как компенсация неблагополучных отношений с супругом, реализация потребности в эмоциональном контакте (ребенок становится центром этой потребности, в результате чего родители препятствуют возникновению привязанности ребенка к кому-либо за пределами семьи, испытывают ревность к объекту такой привязанности).
В том случае, если родители обнаружили в своей системе воспитания какие-либо из указанных черт, им необходимо строго отслеживать свои воспитательные воздействия и реакции на них ребенка.
При истерическом типе невроза у ребенка родителям рекомендуется исключить вседозволенность, необъективную уступчивость ребенку, потакание всем его капризам, подчеркивание несуществующих достоинств. В этом случае у ребенка необходимо формировать критичное отношение к своему поведению и недостаткам, а также побуждать стремление их исправить, не бояться признавать ошибки.
При неврозе навязчивых состояний у ребенка родителям необходимо предоставлять ему больше инициативы, развивать самостоятельность. Этому способствует такой стиль отношений, при котором родитель доверяет ребенку какое-либо (даже сложное) поручение, не запугивает его возможными неудачами, выражает уверенность в том, что ребенок справится, и при этом обязательно отмечает любой, даже незначительный успех.
Дети с неврастеническим типом невроза также нуждаются в ободрении и поддержке. Родителям такого ребенка нельзя подталкивать его к каким-либо действиям, достижениям насильно, без учета его реальных возможностей и желаний, необходимо дать ему время для определения своих склонностей и потенциала и побуждать дальнейшее развитие в этом направлении, очень осторожно и бережно.
ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Программа психологической помощи родителям детей с нарушением интеллекта имеет следующие основные цели:
• изменение отношения матери к ребенку в сторону его большего эмоционального принятия;
• оказание помощи матерям в выработке эффективного стиля общения с ребенком;
• обучение матерей приемам бихевиоральной модификации поведения ребенка;
• оказание эмоциональной поддержки матерям, снятие у них напряжения и тревоги;
• привлечение родителей в процесс развития, обучения и воспитания детей.
Для достижения этих целей использовались такие виды психологической помощи, как индивидуальное консультирование, групповая работа, просвещение матерей, активное взаимодействие специалистов и матерей, активное вовлечение матерей в жизнь школы.
Матери были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. С матерями экспериментальной группы проводилась психологическая работа, описанная ниже.
Индивидуальные консультации. Первым и важным этапом в оказании психологической помощи матерям детей с нарушением интеллекта явилась индивидуальная консультативная работа. В процессе этой деятельности были, во-первых, выявлены матери, остро нуждающиеся в психологической помощи, во-вторых, были определены общие проблемы семей, в которых воспитываются дети с интеллектуальной недостаточностью.
Большинство матерей охотно приходили на встречи, с готовностью участвовали в диалоге, хотя в начале отмечалось некоторое напряжение и волнение. Постепенно, от встречи к встрече они чувствовали себя более раскованно и говорили более открыто. С отдельными матерями приходилось встречаться по 3—4 раза. Каждая консультация длилась от одного до полутора часов.
Часть матерей первоначально не высказала желания встречаться с консультантом. Однако позже они говорили о своих проблемах даже более открыто, чем те родители, которые давно и активно сотрудничали с психологом. Несколько матерей проявили агрессию по отношению к консультанту. Одна из них сказала: «Что вы все спрашиваете, интересуетесь? Мне надоело рассказывать, что и как! Все равно никто не поможет ни мне, ни моему ребенку!!!» Однако, через некоторое время она согласилась поговорить с консультантом. Разговор был сложный, но после беседы она сказала: «Спасибо, что есть люди, которые хотя бы выслушают. Ведь это очень важно для нас».
Индивидуальные встречи позволили понять, что особенно волнует матерей, и в какой помощи они нуждаются.
Многие матери страдают от непонимания и отсутствия участия не только со стороны окружающих, но и близких людей. В результате они вынуждены скрывать, что их ребенок обучается в школе для детей с нарушением интеллекта. Так некоторые говорили: «Не дай Бог, на работе узнают! Стыд-то какой! Я этого не переживу!» «Я не против, чтобы сын учился в этой школе. Он очень быстро привык, получает хорошие оценки. Но мой муж не знает, что сын здесь учится. Если узнает, то убьет и меня, и ребенка. Даже страшно об этом подумать. Как мне быть?» Были и такие высказывания: «Я вижу, что дочери в школе хорошо. А я никак не могу смириться. Стараюсь лишний раз не приходить сюда. А если и вынуждена идти, то стараюсь, чтобы никто не увидел. Что мне делать?»
Немало матерей рождение умственно отсталого ребенка воспринимает трагически, что приводит к эмоциональному стрессу, усталости и, как следствие, агрессии. Они заявляли: «Ну, чем я могу ему помочь? Целый день работаю. Дома куча проблем. Она же не единственный у меня ребенок». Некоторые пытались переложить ответственность на психолога или школу: «Вы все тут грамотные, знаете, что и как делать. Я вам верю. Как скажете, так я и буду поступать»; «Если я всему должна учиться, то что же будет делать школа?».
Были и такие матери, которые испытывали чувство вины. Стремясь помочь им справиться с этим чувством, психолог спрашивала о том, существуют ли конкретные факты, говорящие, что какие-то их действия повлекли за собой такое состояние ребенка. В основном матери говорили, что таких фактов нет. В то же ’время некоторые указывали на события из прошлого, такие, как полученная травма во время беременности, алкоголизм мужа, испуг ребенка, которые послужили причиной умственной отсталости.
Значительная часть матерей сталкивается с трудностями в общении с ребенком. Некоторые мамы говорили, что они хотят лучше понимать своего ребенка, установить с ним правильные отношения, помогать ему.
Многих матерей волнуют испытываемые детьми трудности в обучении и отклонения в их поведении.
Консультативные беседы показали, как разнятся позиции матерей по отношению к ребенку и к особенностям его развития, как по-разному они реагируют на действия детей. Одни матери были растеряны, жаловались, что им никто не помогает, другие настроены на поиск путей решения проблем. Первым нужна была, прежде всего, эмоциональная поддержка, сочувствие, другие нуждались в получении информации о психофизических особенностях и возможностях своего ребенка.
Исходя из потребностей матерей, совместно с ними разрабатывался план действий. Положительным результатом индивидуальных консультаций явилось то, что матери, прислушиваясь к рекомендациям специалиста и почувствовав возможность получения реальной поддержки, обращались вновь за помощью. При повторных посещениях прослеживалась их заинтересованность в общении с консультантом, а также эффективность предложенных при первичном посещении рекомендаций.
Психологом велась работа по формированию у матерей позитивного взгляда на ребенка, оказывалась эмоциональная поддержка тем, кто по-прежнему испытывал чувство вины, проявлял тревожность. Постепенно сотрудничество с родителями становилось все более плодотворным.
Особое внимание на повторных консультациях уделялось обучению матерей умению общаться с ребенком. Матери описывали то поведение, которому они хотят научить ребенка. По желанию матери составлялась программа индивидуальной помощи ребенку. Мать привлекалась к работе по формированию у ребенка общей способности к учению, развитию познавательных процессов.
Родительский тренинг. Большую роль для оптимизации форм родительского воздействия в процессе воспитания и развития детей сыграла групповая работа. С матерями был проведен тренинг родительской компетентности, который сами матери назвали клубом «Вместе». Всего было проведено 10 занятий — одно занятие в неделю, которое длилось полтора — два часа, состав групп — по 12 человек в каждой. Тренинг состоял из трех этапов:
I этап — установочный. Его цели: создание группы; установление отношений доверия; снятие у матерей эмоционального напряжения.
II этап — коррекционный, на котором решались следующие задачи:
• обучение матерей способам коммуникации с ребенком через ролевые игры, демонстрация эффективного общения с ребенком;
• овладение матерями техникой бихевиоральной модификации поведения ребенка;
• повышение чувствительности матерей к проблемам ребенка и эмоциональному состоянию детей;
• информирование матерей о психологических особенностях умственно отсталых детей.
III этап — завершающий, который направлен на:
• закрепление полученных навыков;
• создание положительного эмоционального настроя и желания использовать полученные знания и умения за пределами коррекционной группы.
Первые занятия показали, что значительная часть матерей воспринимает ребенка как больного, старается опекать его, ограждать от любых трудностей. Вот некоторые высказывания:
— Семья у нас хорошая, дружная. Мне приятно, что папа относится к сыну как к маленькому ребенку: сюсюкает с ним, целует его.
— Я знаю, что Максим — ребенок особенный, стараюсь во всем ему помогать.
— Мы все любим своего среднего сына Коленьку. Я говорю детям: «Видите, Коля у нас не такой, помогайте ему, оберегайте, учите».
У некоторых матерей отношение к ребенку противоречивое. С одной стороны, они проявляют любовь к ребенку, с другой — испытывают негативные чувства:
Я люблю своего сына, балую его, но временами он меня сильно раздражает.
Наша Оля — ласковая девочка, мы ее любим, но иногда сильно ругаем.
У меня был такой период, когда я не то чтобы ненавидела дочь, а стеснялась. Сейчас это прошло, и я с гордым видом хожу с ней по улицам.
К кому мы только не обращались с сыном, но результатов нет. Очень тяжело с ним.
Были и такие высказывания, которые свидетельствуют о равнодушном, безразличном отношении к ребенку.
Ребенок у меня странный, все время смеется. Мне уже все равно, что с ним будет.
А что я могу сделать. Пусть будет что будет.
Первое занятие показало необходимость усиления помощи матерям, не принимающим своего ребенка. Некоторые матери по-прежнему чувствовали себя скованно: просто представились и рассказали, с кем живут, т. е. продемонстрировали сопротивление. Такое поведение является вполне обычным для первых занятий. Мотивация на работу в группе появилась к концу занятия. Когда матерям было предложено задание сформулировать проблему, которая в данный момент их как родителей волнует больше всего, они были менее напряжены, говорили более свободно.
Рассмотрим основные проблемы матерей, обнаруженные в ходе тренинга:
Преодоление трудностей в различных видах деятельности.
Как и раньше, многих матерей волновали трудности, испытываемые ребенком в учебе и поведении.
Маша начала учиться — ничего не получается. И смех и слезы.
Мой Саша многое не умеет, многое у него не получается, особенно по математике.
Коля не хочет выполнять домашние задания. Как заставить его?
Иногда едешь с дочкой в транспорте, она начинает приставать к людям: «А как вас зовут? Куда вы едете?» О себе начинает рассказывать. Кто понимает, а кто и отворачивается. А мне стыдно. Как научить Олю вести себя правильно?
Здоровье ребенка, прогноз болезни на будущее.
Значительную часть матерей беспокоит здоровье ребенка, прогноз болезни на будущее.
Меня, конечно, волнует здоровье моего сына, не знаем, как ему помочь.
Мы знаем и понимаем, что наш сын болен. Нас это очень волнует.
Куда мы только не обращались с сыном. И в Москве были. Назначают лечение, а толку нет.
Как я поняла, болезнь наших детей — это все же состояние, которое нельзя вылечить. Но развивать их нужно.
Неумение ребенка общаться. Нарушение социальной адаптации.
Большая часть матерей высказывала беспокойство по поводу неумения ребенка общаться с близкими и окружающими.
У нас проблема: как помочь ребенку общаться с другими людьми. Он их боится, прячется, не разговаривает. Очень долго к школе привыкал, к учителю.
Проблема в том, что Олег не хочет общаться со сверстниками. Иногда я срываюсь, но знаю, что он сам не понимает, что творит.
Коленька боится других детей, не хочет с ними учиться. Я не знаю, как с ним быть.
Катя — хорошая девочка, только малообщительная. Трудно ей будет.
Главная проблема с сыном в том, что с ним трудно общаться. Он живет в каком-то своем мире, я иногда его совсем не понимаю.
— С Сашей очень тяжело разговаривать. Он часто не слышит и не видит, что происходит вокруг него.
— Максим тяжело знакомится с другими людьми.
— Оля может заговорить с незнакомыми людьми в транспорте, на улице. Я иногда ее ругаю. Но что ее ругать — она ведь не понимает.
Потенциальные возможности ребенка.
Конечно, хочется помочь Маше, чтобы она лучше развивалась, научилась говорить, чтобы школу закончила.
Может, учителя разовьют мою дочь. Я с ней занимаюсь, помогаю, как могу, учу тому, чему она может научиться.
Прогноз социального становления ребенка.
Были и высказывания, говорящие о том, что матери беспокоятся о будущем своего ребенка.
— Я с трудом представляю, что будет с сыном, когда он вырастет. Мы с мужем постараемся ему помочь.
— У моего сына выразительная речь, красивый голос. Может быть, это поможет ему как-то адаптироваться в жизни? Мы, конечно, переживаем за него. Но надеемся, что все будет хорошо.
— Андрей охотно занимается на компьютере, может быть, с этим будет связана его профессия.
— Скажите, а можно из вашей школы потом в обычную уйти учиться. Я просто думаю, что сын не совсем уж ненормальный.
Меня волнует, как в дальнейшем сложится судьба моей Алены как будущей женщины. Способна ли она любить?
Куда после окончания школы может пойти учиться или работать мой ребенок?
Ответы матерей позволили психологу глубже разобраться в волнующих их проблемах.
По мере проведения занятий было обнаружено, как изменилось эмоциональное состояние матерей.
Я поняла, что я не одна. У нас общая беда, общая проблема. А поговорить не с кем. На работе не будешь говорить об этом, подумают, что я несчастная какая-то. С мужем все время не будешь одно и тоже обсуждать. А здесь поговорили — легче стало. Правда. Спасибо.
Я себя намного лучше почувствовала, увереннее. Я не одинока. Есть другие женщины, у которых такие же дети. Есть специалисты, которые готовы нам помочь. Я поняла, что вы поможете мне, а я помогу своему ребенку. Спасибо, это нам очень нужно.
Мне трудно говорить, но я рада, что пришла сюда. Вы знаете, что я не хотела ходить на занятия. Решила придти один раз, посмотреть, но думаю, что теперь не пропущу ни одного занятия.
У меня сегодня был очень трудный день, много работала. Откровенно, к концу дня хотелось отдохнуть, думала не приходить на занятие. Но сама атмосфера понимания, дружеского участия, желание выслушать друг друга как-то успокаивает... Мне даже самой захотелось чем-то вам всем помочь, правда, пока не знаю чем.
Я как-то сразу решила, что буду ходить на занятия. Я не знала, что здесь будет, но шла с доверием и настроением. Я не ошиблась. Хорошо себя чувствую, спокойно. Приду домой, кое-что расскажу мужу.
Я не хотела сюда идти. Думаю, приду один раз и все. Но сейчас решила, что буду ходить. Я, откровенно, не жду, что узнаю что-то новое о своем ребенке, я сама много читала об этом заболевании, но мне стало как-то психологически легче... Мне хочется откровенно говорить о проблемах своей дочери и не стесняться этого, не делать вид, что это не ее странности, а просто недоразумения.
Я в последний момент решила зайти сюда, посмотреть. У меня дома мальчишки одни, муж еще на службе, я волнуюсь за детей. Но мне здесь комфортно. Настоящий женский клуб. У нас подобный был в военном городке, но там мы обсуждали проблемы женщин, а здесь совсем другое, здесь главное дети. Я здесь могу говорить о том, о чем нигде не могла сказать. Хотелось бы побольше услышать о моем ребенке.
Часть матерей испытывали потребность в практических советах.
Хотелось бы побольше практических советов услышать, как вести себя с ребенком в той или иной ситуации.
Мне тоже хочется услышать более практические советы по воспитанию таких детей. Например, у Лены очень серьезные проблемы с поведением. Как ее учить? Чему? Будут ли перед нами выступать учителя? А вообще интересно. У меня сын учится в обычной школе, так там ничего подобного нет. А ведь и с нормальными детьми тоже много проблем.
У подавляющего большинства матерей появилась мотивация на дальнейшую работу. Они просили чаще проводить встречи со специалистами и организовать с ними практические занятия.
Для многих матерей была важна получаемая поддержка и опора.
У нас здесь у всех особенные дети. Мы сможем помочь друг другу, в чем-то научить, подсказать. Это хорошо, что вы нас здесь собрали, нам нужны такие встречи.
Мне нравятся наши занятия. Они помогли мне посмотреть на ребенка другими глазами. А главное — у меня с ним улучшились отношения.
По мере проведения тренинговых занятий высказывания матерей о ребенке стали более обстоятельными, продуманными — все это говорило о том, что напряжение, чувство одиночества, безысходности постепенно уступает место уверенности в возможность помочь ребенку социально адаптироваться. Порадовал и тот факт, что в работу включились и те матери, которые были апатичны и проявляли пассивность.
На занятиях решались задачи повышения психолого-педагогической грамотности родителей, повышение сензитивности к ребенку через моделирование типичных ситуаций внутрисемейного общения и взаимодействия с ребенком. Им предлагалось обсудить бытовые ситуации и найти свой способ решения.
После моделирования ситуаций матери обменивались мнениями, рассказывали, что они чувствовали. Очень большой эмоциональный отклик вызвали упражнения, в которых они должны были стать на место ребенка. Высказывания матерей после этих упражнений свидетельствуют о том, что матери стали более чувствительны и внимательны к потребностям и проблемам своих детей:
Так интересно! Детство свое вспомнила. Но я понимаю, что нашим детям еще труднее, мы все видим, понимаем, а они нет. Они бедненькие, все им надо показывать, объяснять. И наказывать их нельзя. Так обидно, когда ты стараешься, а тебя еще и ругают. И приказным тоном нельзя им говорить. Это очень обижает детей. Хотя я стараюсь со своим Коленькой так не разговаривать.
Вы знаете, я подумала, что очень трудно быть ребенком. Чувствуешь себя маленьким и беспомощным. А все тебе что-то говорят, ругают, требуют. Бедные дети!
Хорошо, что вы заставили нас побывать в «шкуре» детей. Я поняла, что наших детей, прежде чем требовать, надо научить, объяснить.
Матери стали лучше осознавать свое общение с ребенком, видеть свои ошибки:
Очень тяжело было входить в роль ребенка. Мы, взрослые, но в какой-то момент я почувствовала себя маленькой девочкой, мне так захотелось прижаться к маме, согреться. С ребенком надо быть всегда спокойной, доброжелательной. Я это лучше сейчас понимаю.
Я все время выходила из роли ребенка. Мне все время хотелось защитить ребенка, а не защищаться самой. А на ругань, насмешку хотелось ответить агрессией, хотя и понимала, что это игра.
Я все время вспоминала Олю, изображала, как она себя ведет. А когда маму изображала, то поняла, что мы много кричим, ругаем их, нужно быть терпимее.
Мне как-то необычно было, сначала смешно. Я согласна, что мы часто бываем раздражены, а детям тоже тяжело.
Все эти высказывания свидетельствуют об изменении материнского отношения к умственно отсталому ребенку. Оно стало менее противоречивым, более эмпатийным.
На тренинге обсуждались особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушением интеллекта. Участниц волновали вопросы:
Мой ребенок иногда бывает такой несдержанный, агрессивный. И причин особых нет. Никто его не трогает. Что мне с ним делать?
Мой сын первым никого не трогает, но стоит его задеть, сразу даст сдачи. Это нормально?
А мой не может за себя постоять. Все его обижают. Что делать?
Мой ребенок иногда бывает очень плаксивым, вспыльчивым, иногда веселым, даже каким-то развязным. И причин особых не нахожу. Это связано с болезнью?
Коля пугается чужих людей, незнакомой обстановки. Иногда закроется руками и не хочет ни с кем говорить. Как его вывести из такого состояния?
Большой интерес у матерей вызвало обучение техникам бихевиоральной модификации поведения ребенка.
На первом этапе матерям было предложено составить список беспокоящих их форм поведения ребенка. Обсуждение представленных списков позволило выделить простые и понятные поведенческие «мишени»: «берет чужое без спроса», «бьет брата», «кричит в автобусе», «отказывается делать уроки» и т. п. Анализ проблем позволил матерям критически их осмыслить и отказаться от значительной части претензий, обусловленных родительским перфекционизмом или излишней тревожностью («не любит, когда ему делают замечание», «не всегда слушается старших»). Первый этап окончился построением так называемой «лестницы проблем», на нижней ступеньке которой располагается самая простая, конкретная и наиболее реально достижимая поведенческая «мишень», а на каждой последующей — по одной мишени, которые отличаются друг от друга постепенно возрастающей степенью трудности. Затем лестница графически изображается на бумаге, что облегчает соблюдение принципа последовательного решения сформулированных проблем.
Второй этап заключался в протоколировании ситуаций, связанных с возникновением той или иной поведенческой проблемы, составлением каталога подкреплений и наказаний в качестве положительных и отрицательных стимулов. Моделируя различные поведенческие ситуации, матери учились использовать как позитивные, так и негативные подкрепления.
Третий этап представлял собой практическое осуществление программы коррекции поведения ребенка, проводимой родителями. Матери анализировали свои реакции на «плохое» поведение ребенка, делились опытом использования стимулов, подавляющих нежелательное поведение и формирующих желательное. Высказывания матерей показали, что они стали более внимательно и критически оценивать причины отклоняющегося поведения детей и собственное реагирование на такое поведение.
В конце групповых занятий ведущий попросил матерей поделиться впечатлениями от тренинга. Были получены самые положительные отзывы:
— Я столько много узнала о своем ребенке. Теперь смотрю на него другими глазами. Либо он стал другим, стал лучше, либо я сама изменилась.
— Я понимаю, что мой ребенок просто отличается от других, но он тоже хороший. Я и мужу об этом все время теперь говорю. Мы должны ему помогать.
— Я теперь начала понимать, что значит особенный ребенок. Он у меня неплохо поет, умеет рисовать. Я даже стала им гордиться.
— Я ощутила себя матерью ребенка, который не похож на других, но он достоин любви и помощи.
— Для меня важно, что я, наконец, поняла, что и как делать. Я стала планировать свое время. У меня появились минуты отдыха, могу поговорить спокойно с подругами, почитать, походить по магазинам. А раньше я все время волновалась, как же дочка дома без меня.
— Мне хотелось бы, чтобы эти встречи продолжались и в дальнейшем.
— Мы научились общаться друг с другом. Мы очень хорошо понимаем друг друга, помогаем друг другу.
Высокая мотивация матерей способствовала повышению эффективности дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Просвещение родителей.
Основными формами деятельности были родительские конференции, «круглые столы», лекции на следующие темы:
♦ повышение знаний родителей об интеллектуальном дефекте, формирование у них практических навыков по преодолению и предупреждению у детей вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведении и личности;
♦ привлечение родителей к активному участию в развитии, воспитании и обучении ребенка.
Темы лекций и конференций охватывали широкий круг проблем: «Взаимодействие школы и семьи — важнейшее условие психосоциального развития личности ребенка», «Основа семейного воспитания — здоровый образ жизни», «Как воспитывать культуру поведения аномального ребенка», «Психофизические возможности детей и посильная трудовая деятельность» и другие.
На первой лекции предлагался список тем с просьбой отметить те из них, которые наиболее интересны, а также дополнить вопросами, которые не представлены, но важны для них. Наибольший интерес вызвал курс лекций, посвященный медицинским аспектам развития ребенка. Он был рассчитан на 5 занятий. После первого выступления врача — психиатра матери задавали следующие вопросы:
Что может оказаться причиной болезни ребенка?
Когда происходит нарушение в развитии ребенка?
Передается ли такое заболевание по наследству?
Можно ли узнать, что ребенок болен, пока еще не родился?
Почему врачи так поздно ставят диагноз?
Почему врачи ничего не объясняют родителям, не советуют, к кому можно обратиться за помощью?
Можно ли вылечить такое заболевание лекарствами? Если нельзя, то почему?
Бывают ли случаи, когда врач снимает диагноз?
Часто ли врачи ошибаются, когда ставят диагноз об умственной отсталости?
Какую литературу можно почитать о таких детях?
Отметим, что врач-психиатр не ожидал такой активности от матерей. Он отметил, что обычно на приеме в поликлинике родители не задают подобных вопросов, а чаще обращаются с просьбами выписать такие лекарства, чтобы ребенок стал спокойнее, чтобы лучше запоминал, чтобы руки лучше работали и т. д.
Свободный обмен мнениями во время лекций, конференций способствовал повышению эффективности просветительской работы.
Взаимодействие специалистов и матерей. Совместное обучение матерей и детей проводится разными специалистами в тесной взаимосвязи, на основе профессионального взаимодополнения.
Цель занятий:
• развитие потенциальных возможностей ребенка с умственным дефектом. Обучение матери психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком;
• обучение матери специальным коррекционным и методическим приемам, необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях;
• обучение матери специальным воспитательным приемам, необходимым для коррекции личности аномального ребенка;
• формирование средств речевого общения и умений практического их использования.
Логопед на совместных занятиях показывал речевые упражнения, обучая матерей проведению их в домашних условиях.
Социальный педагог знакомил родителей с деятельностью организаций, занимающихся вопросами защиты материнства и детства, опекунством и попечительством, с законодательством по защите прав ребенка, с организацией учебно-воспитательного процесса в профессиональных училищах; проводил экскурсии на предприятия и профессиональные училища; обучал родителей и детей составлять деловые бумаги (адрес, заявление, автобиография и др.).
На практических занятиях, проводимых учителями-предметниками, матери в процессе совместной деятельности осваивали специальные коррекционные приемы и навыки, направленные как на освоение определенной темы, так и на общее развитие ребенка.
Параллельно с совместными групповыми занятиями проводились индивидуальные практикумы, на которых закреплялись навыки и умения совместной деятельности родителей и детей. Темы занятий определялись запросами матерей и наблюдениями специалистов за динамикой развития конкретного ребенка.
Вовлечение родителей в жизнь школы. Педагогическому коллективу удалось привлечь матерей к активному участию в различных сферах школьной жизни. Они стали помощниками в проведении утренников, праздников, часов общения, спортивных соревнований. Нередко школьные праздники заканчивались совместным чаепитием. Традиционным стало участие родителей в ярмарке «Осень — припасиха», в выставке «Изделия нашей семьи», в спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья», в смотрах художественной самодеятельности. Мамы и папы оказали помощь в оформлении и пополнении экспонатами школьного литературно-исторического музея, в котором экскурсии проводят старшеклассники для учащихся и родителей. Участвуя в общих делах, родители больше общаются со своими детьми и лучше понимают и принимают их, что в конечном итоге способствует социальной адаптации детей с нарушением интеллекта.
Итак, работа специалистов по обучающей программе позволила постепенно нейтрализовать неконструктивные виды поведения родителей, освобождать матерей от деформирующей их психику формы миропонимания, возникшей вследствие стресса. Переориентировка матерей на позицию сотрудничества с ребенком и его эмоционального принятия способствует преодолению их изолированности и отчужденности.