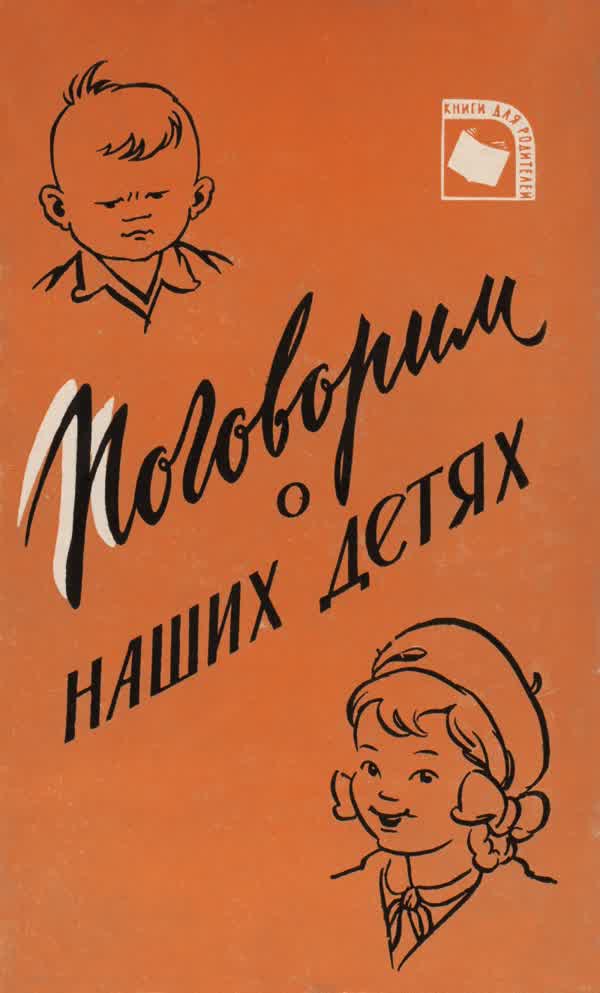
Н. А. МАТЕРОВA
МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕТЯМ УЧИТЬСЯ
(Беседа матери)
Всем нам, родителям, у кого есть дети-школьники, очень памятен тот сентябрьский день, когда ребенок первый раз пошел в школу. Как он рвался туда! Сколько радости всегда доставляет детям первый день учения, какую гордость они чувствуют оттого, что они уже большие, школьники.
В этот день всем детям хочется учиться, но, к сожалению, некоторые из них вскоре охладевают к школе.
Мы с мужем очень боялись, чтобы с нашими ребятами — дочкой Сашей и сыном Володей — не случилось этого. И потому мы старались получше подготовить детей к поступлению в школу.
Очень рано мы поняли, что хорошо подготовить ребенка к школе можно лишь тогда, когда будешь учитывать все особенности его характера, все его индивидуальные черты. И теперь, когда дети уже учатся — Саша в третьем классе, а Володя в первом, — мы помогаем им в учении тоже по-разному. Хоть растут они в одной семье и воспитатели у них одни и те же, папа с мамой, но характеры у ребят сложились совершенно различные.
Дочка у нас старшая. С двух лет, с момента рождения сына, она стала уже считаться «большой». Естественно, что новорожденный ребенок требовал от меня очень большого внимания, и, пока я возилась с сыном, девочке приходилось многое для себя делать самой. В два с половиной года Сашенька почти самостоятельно одевалась, умывалась, ходила одна гулять во двор. Очень рано она стала даже присматривать за младшим братом. Все это способствовало тому, что у дочери вырабатывалась самостоятельность, уверенность в своих силах. Она без боязни бралась за любое дело. В пять лет она без особого труда могла вырезать и склеить игрушку, смастерить одежду для бумажной куклы. Мы это, конечно, поощряли, и дочка подолгу занималась рисованием, вырезыванием.
Надо сказать, что за дочку мы в общем-то не очень волновались, когда повели ее в школу. Казалось бы, есть все данные для того, чтобы дочка стала примерной ученицей.
И вот наша Сашенька — школьница. Действительно, как мы и ожидали, правописание — очень трудное для первоклассника дело — далось ей сравнительно легко, и с чтением она тоже справлялась. Но вот беда — оказалось, что Саша плохо ведет себя в классе.
— Девочка ваша мешает мне работать, — сказала учительница. — Она то и дело вскакивает, подбегает то к одному, то к другому, все время разговаривает.
Я как следует отругала дочку, велела слушаться учительницу. Иду на другой день в школу — жалобы повторяются. Так прошло несколько дней. Я ругала Сашу, она даже плакала из-за этого, но поведения своего в классе не меняла. Я не могла понять, в чем тут дело.
И вот на родительском собрании, когда учительница сказала, что Саша учится хорошо, но другим ребятам мешает, выступила одна соседка из нашего дома, которая давно знала Сашу, и сказала мне:
— Зазналась ваша дочка, вот в чем дело!
Сказано резко, и в первый момент я обиделась, но потом, отбросив обиду, задумалась. Со стороны-то виднее, может быть, соседка права? Ведь надо сознаться, что мы, пожалуй, и на самом деле захвалили дочку. То и дело говорим ей: молодец, умница, мамина помощница, помоги Вовочке... — вот Саша и решила, что и в классе она над ребятами старшая, помощница учительницы. У нее самые добрые намерения, ей искренне хочется быть полезной, и она, наверно, не понимает, почему за это ее ругают.
Обо всем этом я думала, сидя на родительском собрании.
Что же, раз мы с мужем виноваты, что-то проглядели в воспитании дочки, надо дело исправлять.
С этого дня мы стали меньше хвалить Сашу. Вместе с тем я, конечно, перестала ругать ее за плохое поведение в школе, а подробно объясняла, почему все ребята в классе должны сидеть смирно и слушать, что говорит учительница. Но полагаться только на разум и волю семилетнего ребенка, разумеется, нельзя. Его обязательно нужно строго контролировать. И я стала ежедневно заходить в школу, справляться, как у Саши прошел день.
Все это вместе взятое помогло выправить поведение дочки. Постепенно она привыкла хорошо вести себя на уроках и не мешать учителю.
Что касается Сашиной успеваемости, то с ней дело обстояло более благополучно. Но, конечно, и тут было немало трудностей.
У нас в семье, к сожалению, неработающих взрослых нет, поэтому при поступлении дочери в школу я приурочила свой очередной отпуск к началу ее занятий. Ведь первоклассникам, особенно в начале учебы, нужно уделять очень много внимания.
Мы старались прежде всего воспитать у Саши любовь к учению, к школе, старались, чтобы ей хотелось учиться хорошо не потому, что этого требуют мама и папа или за это будет сделан хороший подарок, а потому, что это очень интересно, это нужно и важно, так же как мамина и папина работа, как работа других людей.
Возможно реже мы старались прибегать к прямому принуждению, чтобы не вызвать у дочери отвращения к занятиям. Обычно нужно было просто напомнить ей, что надо сесть за уроки, или сказать, что вот эти палочки написаны очень некрасиво, непременно их надо переписать. Так как дочка была приучена к самостоятельности, к труду еще в дошкольные годы, то сравнительно быстро у нее выработалась необходимая усидчивость. Хотя все же первое время, если я оставляла девочку одну, без присмотра, она писала значительно хуже, чем могла.
Очень много труда пришлось затратить, чтобы приучить дочку выполнять режим. Когда я начала работать, нередко приходилось просить соседку напомнить Саше об уроках, подогреть вовремя обед.
Вечером, придя с работы, мы с мужем непременно проверяли, как выполнено задание учительницы, соблюдался ли режим. И нередко случалось, что мы велели дочери переписать урок заново. Никогда мы не проходили мимо плохо выполненного задания. В результате этого у Саши выработалась привычка сразу все делать хорошо, чтобы не пришлось потом переделывать. С каждым месяцем дочка все больше и больше привыкала аккуратно и добросовестно выполнять задание, и во втором классе следить за ней можно было уже меньше. Сейчас, когда она учится в третьем классе, мы уже не каждый день проверяем, как она сделала уроки. Девочка учится хорошо, она отличница. Очень любит школу и своих товарищей.
С сыном у нас дело было сложнее.
Самый младший в семье, всегда опекаемый нами, Володя до трех лет совсем не умел и не хотел ничего делать самостоятельно. Понятно, что маленький Володя делал все гораздо хуже, чем Саша. Пятилетняя девочка, например, одевалась сама, а Володе я помогала. У него, естественно, складывалось представление, что сам он без помощи взрослых ничего не сделает. До четырех лет он, например, не брал в руки карандаша, а когда я пробовала заставить его порисовать, он делал это очень неохотно и всегда с отчаянием заявлял:
— У меня ничего не получится. Пусть Саша нарисует...
Меня стала беспокоить такая беспомощность ребенка. Я всячески убеждала его, что он тоже многое может. Но, к сожалению, нам не удалось до поступления в школу полностью побороть его неуверенность в своих силах. С этим недостатком Володя и начал посещать первый класс.
Когда сын пошел в школу, мы с мужем взяли свои очередные отпуска — сначала муж, потом я. Я уже говорила, что оба мы работаем, других взрослых у час в семье, к сожалению, нет, и мы считали необходимым хотя бы первое время побыть с мальчиком дома, приучить его к новому режиму, помочь ему в приготовлении уроков. Эта наша помощь была сыну очень нужна.
Особенно трудно давалось ему правописание. Очень часто бывали и слезы, и настоящее отчаяние:
— Мама, я так старался, а у меня опять ничего не получилось.
Успокаиваю мальчика, нахожу на страничке среди клякс и каракуль один получше написанный значок и показываю его Володе.
— Посмотри, сынок, вот эту букву ты написал хорошо. Видишь, какая она ровная, как правильно ты соединил ее с соседней буковкой. Ты и другие можешь написать так же хорошо. Найди-ка теперь сам еще одну хорошо написанную букву.
Сын успокаивается и начинает уже сам рассматривать: вот эта буква написана правильно, и вот почему, а эта совсем кривая, как будто падает, и нажим тут слишком сильный. Конечно, он может написать букву попрямее. Сейчас он постарается все сделать правильно...
Так постепенно у мальчика вырабатывалась вера в свои силы, желание выполнить задание хорошо.
Когда мы с мужем начали работать, проверку уроков мы перенесли на вечер.
Теперь Володя уже сам чувствует, хорошо или плохо он выполнил письменное задание, и случается, он вечером встречает меня во дворе и сейчас же докладывает:
— Опять плохо написал. Но я сейчас перепишу, ладно, мама?
— Обязательно перепишешь, если плохо.
И все чаще бывает, что, не дожидаясь моего возвращения, сынишка сам переписывает то, что написано небрежно и грязно.
С чтением у нас дело обстоит хуже. Читать букварь Володя не любит. И нам пришлось чтение вообще перенести на вечер.
Я готовлю ужин, а Володя садится за букварь и громко, чтобы я слышала, читает заданный урок. Это повторяется у нас ежедневно, сын знает, что никаких отступлений от заведенного порядка не будет, и хоть и без большого желания, но каждый вечер сам садится читать при мне свой букварь. Это у него уже стало входить в привычку.
Но вначале приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы усадить мальчика за книжку.
Несколько раз напомнишь ему, что пора готовить уроки, но он отвечает одно и то же:
— Мамочка, мне сейчас еще не хочется. Я потом...
Конечно, проще всего приказать сыну немедленно сесть за книжку, но мне очень не хотелось, чтобы он занимался без охоты.
И часто в таких случаях я говорила ребятам:
— Давайте играть в «школу».
Саша с удовольствием соглашается и тут же начинает рассаживать своих кукол. Ей нравится быть учительницей. Володя тоже любит эту игру. В ней участвуют и куклы и даже кот, которого нередко выставляют из класса, так как он не слушается учительницу и вместо того, чтобы «писать», грызет свой карандаш или тетрадку, сделанную из кусочка газеты. Понятно, что в такой компании нетрудно стать примерным учеником.
Володя изображает звонок.
— Дз-з-з... — звуки громкие, пронзительные, не слишком-то приятные, но ничего не поделаешь, терплю: если тут школа, — значит, есть и звонок.
— Тише, дети, мы начинаем урок, — говорит «учительница» Саша и открывает букварь где-то на последних страницах. Я вижу, что мне пора вмешаться в игру, и на правах «директора» школы предлагаю «учительнице»:
— Почитайте лучше на этой странице, вот здесь, — и показываю строчки, которые Володе на сегодня заданы.
«Учительница» читает вслух, а потом вызывает к «доске» Володю.
И он читает все, что нужно, и не один раз, а несколько: сначала за себя, потом за кота, за кукол...
Самое ценное в этой игре было то, что Володя читал без всякого принуждения, с видимым удовольствием.
Чтобы заинтересовать сынишку чтением, закрепить то, что он учит в школе, мы устраиваем еще одну игру — игру в слова. Проходит она у нас обычно между делом, и в ней принимает участие вся семья.
Вот, например, как-то вечером ребята попросили меня:
— Мама, пожарь сегодня на ужин картошки (это их любимое блюдо).
Я в это время шила, и муж сказал детям:
— Ведь мама занята, вы видите. А если хотите, чтобы на ужин была картошка, то давайте сами ее и приготовим.
Все дружно взялись за дело. Саша чистила картошку, Володя мыл, папа резал ее и жарил. Я, конечно, со своим шитьем устроилась тут же. Работа спорилась, всем было весело. Решили играть в слова.
Папа спросил:
— Если в слове «малина» заменить средний слог, какие еще слова можно получить?
Володя это слово уже умел читать. Он задумался. Для него задача трудновата, но все терпеливо ждут, пока он наконец не воскликнет радостно:
— Машина!
Эта веселая игра, в которой участвуют папа и мама, для него — серьезное дело, путь к овладению грамотой.
Володя любит рассматривать детские книжки, но читать их боится. Я часто говорю ему:
— А ты посмотри получше и найди в этой книжке знакомое слово.
Мальчик находит слова, которые знает — Маша, Миша, оса, и очень радуется. Книга ему уже не кажется недоступной, пугающей.
Думаю, что страх перед чтением у него постепенно рассеется. По-настоящему он, конечно, полюбит книгу лишь тогда, когда научится читать бегло.
Саша раньше тоже не любила читать сама. И мы с ней иногда устраивали совместные чтения — несколько строк прочтет она, дальше читаю я, потом снова она. И вот однажды, передавая мне книжку, Саша попросила:
— Мама, прочитай сначала то, что я читала, а то я не поняла, что там написано.
Мне стало ясно, что дочка не любит читать потому, что все свои усилия тратит на произнесение слова, а смысл от нее ускользает.
Вот тогда-то мы с мужем поняли, что не следует заставлять ее читать насильно, иначе чтение превратится для нее в наказание, она возненавидит книги. Поняв это, мы стали чате читать с ней вместе, причем непременно повторяли тот текст, который читала Саша, чтобы девочка вполне поняла его смысл. Вскоре она сама научилась читать бегло, надобность в перечитывании отпала, а любовь и интерес к книгам у дочери сохранились.
Так же мы думаем поступать и с сыном, когда он сможет читать легкие рассказы.
В заключение мне хочется еще раз подчеркнуть, что на первых порах учения в школе ребенок требует к себе особенно большого внимания. Опыт работы с дочерью убедил нас в этом. Думаем, что при нашей помощи и сын также с большой охотой будет учиться.
Во всяком случае, в настоящее время, особенно после получения первых пятерок, которые ему достались очень нелегко, сын просто рвется в школу. Он иногда даже ночью просыпается, боясь опоздать. И когда он идет в школу, вид у него такой, будто он выполняет какое-то очень ответственное дело Да ведь так оно и есть. Учение для него — самое нужное, самое важное дело.