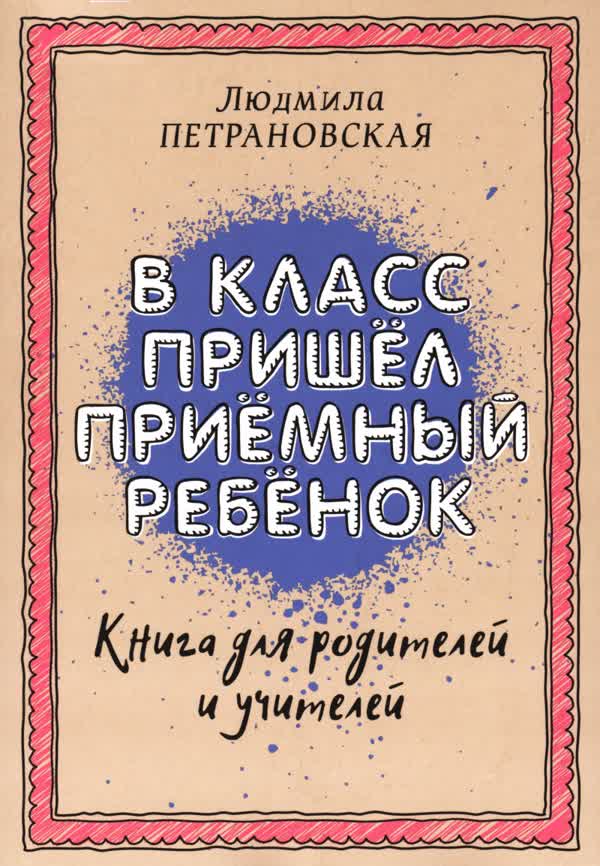
ОДИН И НЕ ДОМА: ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ
Первыми к мысли о том, что физическое и психическое здоровье ребенка, его развитие, отношение к миру и к своему месту в нем определяются его взаимоотношениями с родителями в раннем детстве, пришли психоаналитики. Их опыт работы со взрослыми пациентами показывал: изменения к лучшему в психологическом состоянии человека происходили после того, как всплывали тяжелые детские воспоминания — о чувстве отверженности матерью или отцом, о том, что родители были вечно недовольны, что их не было рядом в трудные минуты.
Ребенок не в состоянии отделить объективные обстоятельства жизни от родительских желаний, ему кажется, что уж мама-то с папой всегда делают то, что хотят. Отец много работает и почти не видится с ребенком не потому, что должен содержать семью, а потому, что «он меня не любит». Мать после появления второго ребенка начинает уделять меньше внимания первенцу не потому, что малыш требует больше заботы, — просто «я ей больше не нужен». И даже если мать умирает, ребенок злится на нее, потому что «она меня бросила». Такие выводы об отношениях с родителями — часто вовсе не соответствующие действительности, по-детски упрощенные — закладывают фундамент личности ребенка, на котором он в дальнейшем строит свои отношения с окружающими. Например, от каждого нового человека ожидает, что тот его скоро предаст или бросит, «шестым чувством» выбирая для завязывания отношений как раз тех, кто на самом деле способен бросить.
Исследования психоаналитиков продолжил немецкий психолог Рене Спитц, который наблюдал за младенцами из «образцовых» приютов, где у них было хорошее питание и лечение, но практически отсутствовало общение со взрослыми. Во избежание инфекций детей размещали в стерильных палатах, специально обученный персонал заходил к ним только по необходимости — перепеленать, покормить — и всегда в марлевых повязках. В других случаях на руки детей брать не разрешалось. В результате дети в этих «передовых» приютах развивались гораздо хуже, чем дети из приюта при тюрьме, которые жили в очень плохих условиях, но часто виделись со своими мамами (и смертность среди первых была в несколько раз выше). Среди белых стен, в окружении белых масок вместо лиц, лишенные тепла рук, младенцы в буквальном смысле слова умирали от тоски. Это явление Спитц назвал «госпитализмом».
Госпитализм — это комплекс симптомов, который проявляется у ребенка, оставшегося без матери. Ребенок становится тихим, замкнутым, вялым, плохо ест и спит, теряет способность сопротивляться инфекциям и может умереть даже от нетяжелой болезни. Дети, которые растут без родительской заботы, отличаются от семейных заметным отставанием в физическом и интеллектуальном развитии, не проявляют любознательности, не любят осваивать новые навыки, легко впадают в истерику, в панику, в отчаяние.
Почему так происходит? Превращение новорожденного, практически неспособного выжить без посторонней помощи, в малыша, который бегает, ест кашу и болтает, — не менее сложный процесс, чем развитие ребенка из яйцеклетки. Чтобы он был возможен, природой создана сложнейшая система «мать-дитя», где все взаимосвязано. Известно: если ребенок сосет много и активно, то молока в груди у матери становится больше. И наоборот: не давайте ребенку грудь в первые несколько суток (как это было принято в наших роддомах еще недавно) — и вы получите «безмолочную» маму. Если не для кого производить молоко, организм женщины и не станет этого делать.
Точно так же с ребенком. Он растет, развивается, учится новому, выздоравливает после болезней, только если есть для кого. Если кто-то этому рад, ждет, помогает, если в ответ на каждое свое усилие, каждое достижение ребенок получает позитивную реакцию. Прежде чем младенец в первый раз улыбнется, он видит тысячи улыбок своих родителей и близких. Прежде чем он в первый раз самостоятельно повернется, его сотни раз перевернут мамины (папины, бабушкины) руки, показывая, как это делается, поддерживая, укрепляя мышцы и уверенность в себе. Закон сохранения заботы звучит так: чтобы человек умел заботиться о себе и о других, сначала кто-то другой должен вложить в него много-много заботы.
Из актов общения, которыми мать ежесекундно обменивается с ребенком в первые месяцы и годы его жизни — из взглядов, прикосновений, ласковых слов, — постепенно формируется его личность. Ребенок приходит в мир, готовый к этой большой работе, настроенный на нее, — сразу после рождения он способен отличить свою мать от других женщин по голосу, по запаху, по вкусу. Если роды прошли без осложнений и младенец проводит первые часы жизни с мамой, он может долго и сосредоточенно смотреть ей в глаза, словно знакомится, изучает, стремится установить с ней связь.
Но бывает и иначе. Мать оставляет ребенка. Он зовет — ее нет. Он ищет глазами ее взгляд, губами ее грудь. Нет. Его пеленают, кормят, моют разные люди, каждый раз не те. Ему страшно. Масштаб этого страха мы, благополучные взрослые люди, даже не можем себе представить. Потому что чего бы мы ни боялись — операции, переезда, потери близких, — мы не можем потерять сразу все, даже при значительной потере в нашей жизни останется все остальное. А у ребенка этого «остального» просто нет — ни других опор, ни интересов, ни целей, ни опыта борьбы с неудачами. Для него отсутствие матери означает не крушение того, что было, а невозможность возникновения чего бы то ни было.
Даже если о ребенке хорошо заботятся нянечки или другой персонал сиротского учреждения, его тревогу это не снимет. Во-первых, потому, что для него изучить реакции и поведение другого человека — очень сложная задача. Когда люди все время меняются и у каждого своя мимика, свои интонации, свои приемы, задача становится просто непосильной. Во-вторых, даже самая добросовестная нянечка вынуждена заниматься группой детей и не может, как мать, подходить по первому зову одного, часами лепетать вместе с малышом, держать его на руках, кормить и менять пеленки тогда, когда это нужно ребенку (а не по санитарным нормам). К тому же нянечки бывают разные, и руки их не всегда берут детей ласково, и голоса у них не всегда добрые...
К счастью, дети обладают огромными способностями к адаптации и огромным желанием жить. Поэтому они стараются удержаться на первых двух пунктах своей внутренней программы: «добивайся внимания взрослого, не добившись, замри и жди, не дождался — умирай». Именно этим объясняется большинство особенностей детей, в раннем возрасте оставшихся без родителей, — «отказников», «подкидышей» и прочих обитателей домов ребенка.
Например, многие детдомовские дети, даже давно вышедшие из младенческого возраста, страдают энурезом (недержанием мочи). В чем причина? С одной стороны, состояние постоянной тревоги (психологи называют ее базовой) в отсутствие матери расшатывает нервную систему, в том числе и ту ее часть, что управляет мочеиспусканием. С другой — ребенку нужно внимание взрослых. Не мамы, так хоть нянечки. Не любви, так хотя бы формальной заботы. Не ласки, так хоть какого-то физического контакта. Описайся лишний раз — и ты это получишь. Даже если рассердятся, прикрикнут или шлепнут, все равно это лучше, чем ничего. Это та соломинка, за которую можно ухватиться утопающему. Внимание взрослого для ребенка — не прихоть, а жизненная необходимость. Потому что голос природы внутри все время настаивает: получи внимание взрослого или умрешь. Тут уж выбирать средства не приходится.
Того же происхождения привычка детей из детского дома по любому поводу громко кричать, закатывать истерики. Все просто: если у нянечки есть время подойти только к одному из десяти детей, она подойдет к тому, кто кричит громче всех. Кто не сумел обзавестись «луженой глоткой», получает меньше внимания — значит, больше отстает в развитии и имеет меньше шансов выжить. Оттуда же — такая особенность поведения детдомовцев, как «прилипчивость»: неестественная ласковость, когда ребенок готов залезть на колени к любой незнакомой женщине, обнять ее, поцеловать, назвать мамой. Понятно: отчаявшись получить полноценную материнскую любовь, он решил добирать количеством («с миру по нитке») внимание взрослых, а если не дают добровольно, надо выпросить, выманить, выбить.
Ребенок, оставшийся без матери, находится в крайней степени стресса, ему не просто одиноко или грустно — решается вопрос его жизни или смерти. Каждый день. Многим известны навязчивые действия, которые так пугают в детях, выросших в казенном доме. Даже довольно взрослые дети — шести, восьми лет — сосут палец, и порой не один, а чуть ли не всю кисть засовывают в рот, часами раскачиваются из стороны в сторону, могут даже биться головой о спинку кровати. Все эти ритмические действия — замена материнскому укачиванию, тот способ, который изобретают дети, чтобы справиться с нестерпимой тревогой и успокоиться. Поэтому если вам неприятно видеть, как восьмилетний ребенок сосет палец, вспомните, почему сформировалась эта привычка, зачем ему это было нужно (дети, которые не научились так себя успокаивать, просто не дожили до восьми лет).
Как решить эту проблему? В государственном масштабе — активно заниматься профилактикой ранних отказов от детей (кое-что в этом направлении уже делается). Ведь настоящих матерей-кукушек, у которых необратимо сломана программа материнской заботы о ребенке, очень мало. В основном от детей отказываются от безысходности, оттого, что женщине негде и не на что жить. Если она еще во время беременности получает помощь и поддержку, обычно у нее находится возможность самой растить ребенка.
Детям, которые все же остались без матери, лучше расти в малокомплектном учреждении, где за каждой няней закреплено не больше четырех-пяти детей. Но настоящим спасением может стать только семья. Чем раньше ребенок-сирота обретет семью, тем меньше будут последствия эмоциональной депривации, тем полнее он сможет восстановиться для нормальной жизни. И значение здесь имеет буквально каждый день. Очень важно донести эту мысль до всех, особенно до тех специалистов, которые имеют отношение к сиротам. Потому что сейчас многие не видят проблемы в том, что малыш еще неделю-другую, а то и месяц-два полежит в больнице, подождет в приюте решения инстанций, определения статуса и т.п. Пока он находится в учреждении, формируются все новые и новые психологические проблемы, которые придется потом решать приемным родителям1.
Последствия депривации все же преодолимы. Дети очень хотят жить и расти, поэтому они используют любой шанс, подаренный судьбой. После устройства в семью даже младенцы каким-то образом чувствуют, что «жизнь налаживается», и делают невероятный скачок в росте и развитии. Но пережитый стресс еще долго дает о себе знать, и чем дольше ребенок прожил без семьи, тем более длительным будет процесс восстановления.
1 В этой ситуации неоценимо значение профессиональных патронатных семей, которые могут взять малыша к себе до выяснения всех обстоятельств, а потом уже передать его постоянным приемным родителям. Очень больно бывает слышать пренебрежительные отзывы об этих людях, которые, мол, «берут детей на передержку». Они спасают детей от казенного дома, от последствий депривации, каждый раз принося в жертву собственные чувства и желания, чтобы помочь большему числу детей.