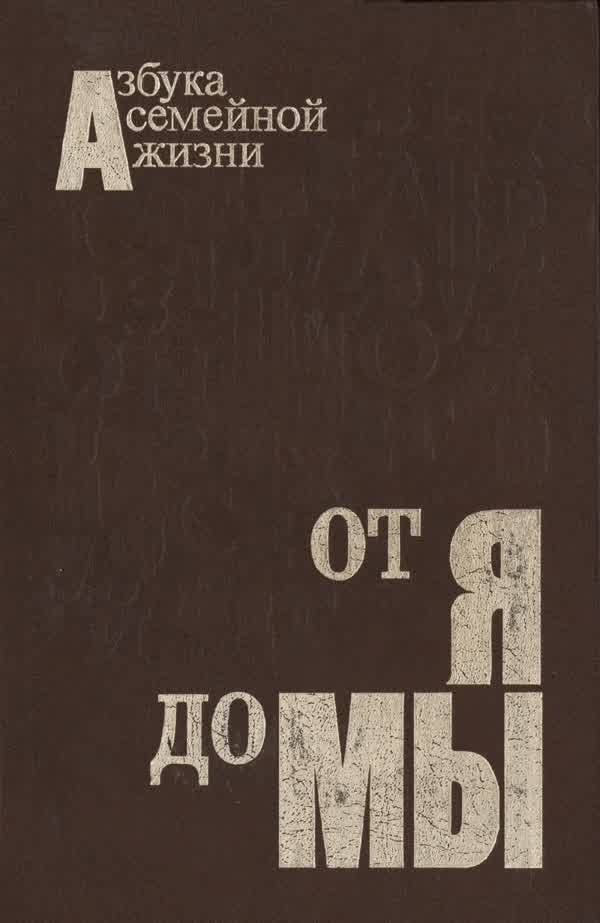
С нулевого по десятый. Школьная учеба... Последовательное восхождение наших детей по ступенькам лестницы гражданской зрелости. Важнейший вид их деятельности с 6 до 17 лет. Воистину необъятный океан знаний, который наши чада должны будут осилить, дабы достигнуть столь желанной и им, и нам, родителям, социальной определенности. И постоянное их пребывание в школе — второй семье ребенка, которая важна для него не многим меньше, чем первая, родительская.
Именно поэтому с наступлением школьного возраста многие родители начинаются задаваться действительно серьезным вопросом: как сделать так, чтобы учеба оказалась успешной — и с точки зрения усвоения знаний, и в плане формирования личности наших детей?
Не будем скрывать очевидного: вопрос этот столь сложен и ответствен, что полноценный ответ на него составил бы несколько книг. Мы же в этом разделе обратим ваше внимание на проблему взаимоотношений с учителями, которые, в свою очередь, более всего рассмотрим в плане формирования личности ребенка.
Если мысленно «пробежаться» по этим самым взаимоотношениям учащихся и учителей с нулевого по десятый класс, можно сразу же отметить одно — возрастающую их сложность. Причина здесь достаточно ясна — это увеличивающееся несоответствие возрастных особенностей школьников (ведь дети-то растут, да еще как быстро!) и их позиции в школе. Так, например, социальная ситуация развития старшеклассников имеет поистине парадоксальный характер. С одной стороны, их собственное чувство взрослости, требования, условия и возможности окружающей действительности (в том числе, кстати, и школьной) настоятельно обусловливают проявление с их стороны самостоятельности, инициативы и ответственности. С другой же, школьная обыденность, принятые в школе нормы и правила не только не способствуют их проявлению, но, более того, препятствуют этому, настоятельно подчеркивая необходимость жестокого подчинения требованиям учителей, деятельности ученических организаций (в том числе и ведущей — комсомольской) под их контролем и опекой, порождая элементарное отсутствие возможности хоть какого-нибудь воздействия на учителей со стороны стремительно растущих учащихся, которые с каждым днем все острее и болезненнее осознают свою подчиненность и неравенство. К сожалению, педагоги едва ли не меньше родителей способны заметить, оценить и использовать в воспитании и обучении изменения, происходящие в ребенке. Одна из причин этого — все еще бытующее в обыденном педагогическом сознании представление об ученике как о пассивном объекте учебно-воспитательного процесса.
В долгой истории педагогической мысли не раз схлестывались две крайние точки зрения на учебу и воспитание. Представители первой из них, возможно, чересчур прямолинейно и схематично интерпретировав известную мысль Я. А. Коменского о том, что учитель есть мастер, а школа — мастерская, где из ребенка делают человека, затратили немало усилий на превращение педагогики в некий свод готовых рецептов, а самого процесса обучения — в какую-то «дидактическую машину». Не думайте, что эта точка зрения канула в Лету — она до сих пор отчетливо проявляется в той же (достаточно выраженной) тенденции представить обучение (и даже воспитание!) в виде системы операций над психикой учащегося, активного манипулирования учителем пассивной личности ученика.
Представители второй точки зрения, возведшие на пьедестал искусство воспитания и категорически противопоставившие его педагогическим методам, приемам и технике, несмотря на свою полную противоположность «технократам», ни на йоту не отошли от главного их заблуждения, сполна проявившегося и в их воззрениях: ведь здесь ученик предстает не более чем глиной, из которой учитель — творец и художник — обязан по неподвластным алгебре законам педагогического искусства вылепить нового человека.
Подобное восприятие ученика в любом его возрасте является порочным, чреватым далеко идущими последствиями заблуждением: воспринимая кого-то закономерно пассивным, мы не только не сможем добиться от него активности и самостоятельности, но и попросту будем по сути злонамеренно, но «из самых лучших побуждений» пресекать малейшее их непроизвольное проявление.
Нет, мы, конечно же, ни в чем не виним учителей и уж тем более не призываем к возврату к сомнительным педагогическим экспериментам первых послереволюционных лет, когда воистину несчастные «шкрабы» (школьные работники) просто трепетали перед едва ли не безграничной властью выбранных из числа учащихся «учкомов». Но право же, учителям стоит куда большее внимание уделять не только естественно и безоговорочно важной учебе, но и активному поиску и подбору дел и проблем, способных явиться полем для проявления активности, самостоятельности и ответственности учащихся.
Ведь чем больше их будет и чем теснее эти действа окажутся связанными со школой, тем дольше, естественнее и безболезненнее будет проходить, увы, неизбежный процесс своеобразного «вырастания» детей из школы.
К сожалению, процесс этот закономерный и неизбежный, и свойственное младшим школьникам и даже подросткам «чувство дома» в конце концов сменяется весьма избирательным, немного скептичным, а порой и равнодушным настроем 16—17-летних. Одна из причин этого печального явления как раз и лежит в особенностях взаимоотношений учителей и учеников, где столь необходимые, как вы уже поняли, «зеркальные» их взаимодействия (учитель — это тоже своеобразное зеркало для наших детей) серьезно искажаются таким неприятным явлением как «пигмалионизм».
Помните прекрасный миф о Пигмалионе и Галатее? Так вот, американские психологи Розенталь и Джекобсон в результате своих исследований пришли к выводу, что учитель в классе частенько выступает именно в роли такого вот увлекшегося скульптора, который вместо того, чтобы брать глыбу мрамора и отсекать от нее все лишнее, где-то и в чем-то насилует природу и натуру, желая добиться не того, что ей свойственно и соответственно, а того, что угодно ему.
Исходным для создания концепции «Пигмалиона в классе» (именно так и называлась вышедшая в 1968 г. обобщающая книга Розенталя и Джекобсона) явился незапланированный эксперимент, осуществленный этими исследователями в одной из американских школ. Проведя тестирование на определение уровня интеллекта учащихся, они в итоговых протоколах сознательно существенно завысили его оценки группе слабоуспевающих учеников. А возвратившиеся через полгода в эту самую школу психологи с изумлением обнаружили, что эти ранее сильно отстающие ученики уверенно выбились в разряд едва ли не лидеров!
Дополнительные исследования, проведенные Розенталем и Джекобсоном, позволили им сделать достаточно обоснованный, но в чем-то излишне сенсационный и оттого вызвавший много нареканий вывод. По их мнению, учитель обычно создает у себя определенные установки (прогнозы, ожидания) относительно своих учеников и ведет себя с ними так, чтобы эти прогнозы оправдались.
Не будем до конца соглашаться со второй частью этого вывода — она не столь уж и бесспорна, и если и реализуется на практике, то лишь для отдельных учителей и некоторых учащихся. Тем не менее факт наличия у вершителей педагогического процесса такой вот «пигмалионистской» установки на учеников налицо, и не ею ли объясняются нелепейшие просчеты взрослых в прогнозировании будущих успехов детей? Известно ведь, что многие из впоследствии признанных великими в детстве и юности признавались не только малоспособными, но и просто тупыми!
Производили устойчивое впечатление совершенно бездарных Джемс (один из великих психологов), Уатт (изобретатель паровой машины), Свифт (знаменитый автор «Гулливера») и Гаусс (впоследствии великий математик). Эйнштейну в школе никак не давалась математика, а Ньютону — физика! Гельмгольца учителя считали слабоумным, Вальтера Скотта — безнадежно и навсегда глупым, Линнею прочили карьеру сапожника, а в Дарвине находили интерес и призвание к трем малополезным занятиям — стрельбе, возне с собаками и ловле крыс... И как знать, сколько еще потенциально способных учеников уже прошли, нынче проходят и еще пройдут мимо внимания учителей из-за установочных шор на их глазах...
Сама по себе установка учителя на учащихся начинает формироваться с первого момента их встречи. Предсказать ее не так уж и трудно, если учесть, что учителя предпочитают лучше относиться к «интеллектуальным» (точнее — интеллигентным с виду), дисциплинированным и исполнительным ученикам. На втором месте находятся пассивно-зависимые и спокойные, а на последнем, нелюбимом — активные и независимые школьники с высокой самооценкой. Весьма существенную роль играет внешность ученика — заведомо привлекательным учителя обычно приписывают лучшие качества. «Пигмалионизм» педагогов проявляется в избирательности их взаимоотношения и общения с учащимися: они чаще обращаются к тем, к кому «неравнодушны» (т. е. испытывают какие-то чувства — от любви до ненависти), «безразличные» ученики обычно проходят мимо их внимания (до чего удобно быть «середняком»!). Влияет же здесь изначальное приписывание школьников к «перспективным» или «бесперспективным» (или «хорошим» и «плохим» — а это своеобразная цепная реакция: один учитель сообщил другому, что такой-то «не тянет», и пошло-поехало...) — учащиеся этой группы в 4 раза меньше обращались к учителю, но зато он к ним — в 1,5 раза чаще, но ругал в 2 раза больше, а хвалил — в 3 раза меньше, чем «перспективных», причем оказалось, что за одинаково правильные ответы «перспективных» хвалили в 2 раза чаще «бесперспективных», зато за одинаково неправильные последних ругали в 3 раза чаще! Откроем секрет, который еще более усилит значение вышесказанного: последние из приведенных нами данных были получены в эксперименте, где сравнивались дети с одинаковыми способностями и уровнем подготовки!
Итак, «пигмалионизм» во взаимоотношениях учителей и учеников может реально существовать в школе, и может быть, что именно он помешает вашему сыну или дочери успешно ее закончить. Что ж, раз так, постарайтесь совместно с учителями повести борьбу за то, чтобы школа до последнего звонка оставалась для вашего ребенка любимым домом, а учеба — если и не привлекательным, то, по крайней мере, бесспорно нужным делом. Именно совместно, потому что и вы, родители, тоже являетесь «Пигмалионами», ибо воспринимаете своего ребенка в соответствии с давным-давно сложившимися представлениями, не замечая происходящих в нем изменений. Главное здесь — это создание в классе (на любом уроке!) благоприятного морально-психологического климата, способствующего нормальному эмоциональному состоянию учащегося и его устойчивой учебной мотивации. Достигается же он во многом посредством оптимизации (если хотите — улучшения) взаимоотношений и общения учителя и ученика.
Начните с «пигмалионизма». Безусловно, вы без особого труда сможете выявить «трудные» для вашего сына или дочери предметы. Стоит, наверное, попытаться определить, не стоят ли за этими «трудными» учителя, личностные особенности которых препятствуют им правильно увидеть вашего ребенка или происшедшие в нем за последние годы изменения. Известно, что, по данным психологов, всех учителей по этому признаку можно разделить на три типа — проактивных, реактивных и сверхреактивных.
Проактивный учитель склонен к позитивным установкам на учащихся и весьма инициативен в организации общения с ними, причем контакты его строго индивидуальны. Как правило, он знает, чего и как можно и нужно добиться в педагогическом процессе, и единственным его возможным Недостатком является то, что сложившиеся установки на учащихся у такого учителя в основном меняются с опытом, т. е. самостоятельно он не всегда ищет им подтверждения. Совместная работа родителей с учителем проактивного типа несомненно благотворна, поскольку доброжелательное взаимодействие «домашней» и «школьной» точек зрения неизбежно обогащает обе стороны, позволяя им лучше, полнее и выпуклее увидеть основной предмет своих хлопот, стараний и чаяний — учащихся.
Учителя реактивного типа также гибки в своих установках, прогнозах и ожиданиях (вообще-то даже больше, чем проактивные), но, к сожалению, они очень сильно подчинены ситуации. Нашкодил (из чистого озорства) ранее воспринимаемый положительно ученик — и в глазах такого учителя он уже выглядит заведомо плохим. Такая вот зависимость реактивного от «стихии ситуации» частенько оборачивается его пассивностью в общении с классом, когда не он, а ученики диктуют характер взаимоотношений, заставляя его подстраиваться под ситуативные требования ученической вольницы. Взаимодействовать с таким учителем трудно, но возможно и, более того, необходимо, причем взаимодействие это обязательно должно включать со стороны вас, родителей, элементы твердости и целеустремленности, которые смогут быть противопоставлены стихийности осуществления учебно-воспитательного процесса реактивного учителя.
Наконец, сверхреактивные учителя весьма склонны к негативным установкам и, замечая проявление у учащегося индивидуальных особенностей, умудряются в то же время совершенно неверно их интерпретировать, во много раз преувеличивая степень проявления качеств личности ребенка, и, что, пожалуй, самое здесь главное — считать, что эти их предположения и есть в подлинном смысле модель действительности. Увы, вам, скорее всего, хорошо знакомы проявления подобной «сверхреактивности», когда, например, соседка естественные проявления активности вашего ребенка немедленно называет хулиганством, а не столь уж и длительная неуспеваемость его по какому-либо предмету служит достаточным основанием для того, чтобы сверхреактивный учитель тут же окрестил ребенка лодырем, кретином и бездарью.
Сразу же оговоримся: сверхреактивные педагоги — крайняя редкость в нашей советской школе, поскольку само по себе стремление втискивать живого ребенка в прокрустово ложе субъективных представлений никоим образом не совместимо с ее гуманными идеалами. И если вам и придется столкнуться с таким горе-учителем, способным осуждать у «плохого» школьника даже те поступки, которые заведомо должны вызывать положительную оценку, в борьбе за действительно заслуженное вашим сыном или дочерью место в школе и учебно-воспитательном процессе вы смело можете опираться на весь родительский актив, педагогический коллектив и комсомольскую организацию.
Однако неверная, «пигмалионистская» по сути установка вполне может быть присуща и реактивному, и даже проактивному педагогу. И оттого вам стоит, пожалуй, определить, не сложилось ли у кого-нибудь из учителей неточное, мешающее учебно-воспитательному процессу отношение к вашему сыну или дочери. Сделать это не столь уж и сложно, если воспользоваться списком признаков, позволяющим выявить бессознательно плохое отношение к учащемуся.
Как правило, учитель дает ему меньше времени на ответ, т. е. попросту не позволяет подумать. В случае же, если первоначальный ответ неверен, он не повторяет вопроса («Ты не понял, я ведь спросил о...»), не дает подсказки («А ты вспомни-ка о...»), а тут же дает правильный ответ или спрашивает другого (в итоге все равно одно: «Опять не знаешь. Садись — «два»). Помимо этого, частенько он вопреки здравому смыслу «либеральничает»: оценивает положительно весьма сомнительный ответ, однако чаще ругает за подобный ответ именно «плохого» ученика и реже хвалит его за ответ правильный. Наконец, он предпочитает не реагировать на стремление «плохого» дать ответ, вообще реже вызывает такого ученика, заметно меньше работает с ним на уроке, мало улыбается и смотрит в глаза «плохим» учащимся.
Что здесь можно предложить, дабы дефекты перцептивного (воспринимательного) компонента взаимоотношений учеников и учителей не изменили в худшую сторону их положительный характер? Прежде всего — естественное для любых нормальных отношений доверие: родителей — к учителям, учителей — к родителям и их обоих — к детям. Момент этого взаимного доверия чрезвычайно важен для налаживания оптимальных взаимоотношений в «треугольнике» родители — учителя — дети, поскольку оно является необходимым условием успешной реализации другого могучего средства «борьбы за взаимоотношения» — налаживания четкого обоюдного контакта, в настоящее время реальные отношения родителей и учителей сводятся в основном к двум формам общения — это эпизодические их встречи, инициаторами которых обычно являются школьные работники, а содержание исчерпывается очередной виной взрослого ребенка, и это несколько более продолжительные речи на родительских собраниях, где, к сожалению, чаще всего классный руководитель жалуется на детей, а родители (дружно) — на школу. Между тем тесная дружба двух важнейших в жизни наших чад «домов» просто необходима — в том числе и для того, чтобы преодолеть возможную однобокость, узость взглядов на конкретных детей и взаимоотношения с ними, поскольку давно отмечено, что они охотно и часто сознательно демонстрируют в школе одно, в семье другое, а на улице — вообще третье, ничуть не похожее на первое или второе.
Какая информация здесь необходима? Прежде всего учителям, например, необходимо достаточно хорошо знать информацию не только о составе, месте работы взрослых, профессии, материальной обеспеченности, жилищных условиях и т. п., но и о культурном уровне семьи (образование членов семьи, наличие и объем библиотеки, количество и даже наименование подписных изданий, в особенности выписанных по инициативе детей, литературно-художественные и другие интересы домашних, а также семейные традиции и праздники), устойчивых интересах, склонностях и способностях, проявляемых детьми дома, а еще о реальных воспитательных возможностях семьи; взаимоотношениях между ее членами, и особенно между родителями и детьми; степени родительского авторитета; внимании взрослых, уделяемом подрастающему поколению; стиле; методах и приемах воспитания; традиционно используемых мерах поощрения и наказания; семейных обязанностях детей; степени единства воспитательных воздействий взрослых членов семьи; общесемейном режиме и климате. А в дополнение ко всему этому — о внесемейных влияниях и взаимоотношениях: друзьях, компании, дворе, улице, соседях и знакомых родителях.
Однако одной только этой информации мало для организации успешного воспитания детей и эффективных взаимоотношений с ними — слишком уж стремительно происходят изменения в психике, личности и поведении детей. Поэтому весьма важно для учителя знать о жизнедеятельности детей; особенности выполнения уроков (затрачиваемое на них время, степень самостоятельности, любимые — нелюбимые предметы, испытываемые трудности); содержание и соблюдение режима дня (куда, как и на что уходит время ребенка, особенно свободное); внешкольный круг общения; рассказы, разговоры, а также оценочные суждения ребенка о школе (но только те, которые не составляют тайны); его поведение в семье (наиболее важны здесь любые необычные изменения) и, наконец, просьбы и предложения к школе — вот только краткий перечень тех сведений, которые должны регулярно приходить в нее из семьи. Но в свою очередь, и школа должна также всесторонне и регулярно информировать родителей или участвующих в педагогическом процессе членов семьи об учебной деятельности детей (их отметках и шире — успехах и неудачах, а также об особенностях усвоения материала по отдельным предметам); об их общественной активности и участии в жизни коллектива (в том числе о выполнении общественных поручений и обязанностей); об отношениях ребенка с товарищами и учителями (включая достаточно подробную характеристику его школьного круга взаимоотношений); об особенностях его поведения; о видимых способностях и склонностях детей и, наконец, о советах и рекомендациях по их воспитанию. Еще раз подчеркнем: только такой вот двусторонний, регулярный и, если можно так выразиться, доверительный контакт семьи и школы способен ликвидировать вполне возможные аномалии во взаимоотношениях взрослых и детей.
Трудный возраст. Подростковый возраст обычно называют трудным, подчеркивая этим чрезвычайный и сложный характер глубоких качественных изменений, которые происходят в этот период и в организме, и психике человека.
Важнейшая особенность этого возраста — переход от детства к взрослости. Ребенок уже покидает мир детства, но он еще и не полноправный член общества взрослых. И по своему физическому облику, и по поведению подросток напоминает зайца в период линьки — кое-где шкурка уже серая, а кое-где еще белая. Непоследовательность поведения, перепады настроения, неожиданные выходки подростков заставляют врачей и педагогов говорить об особом «подростковом комплексе», о «пубертатном кризисе», что подчеркивает специфику этого возраста и особо сложные задачи, которые он ставит перед воспитателями и родителями.
И первые, и вторые должны учитывать, что в этот период подросток живет как бы в особом мире, характеризующемся рядом противоречий.
1. Физиологические противоречия. Во время ускоренного роста довольно часто возникают несоответствия в темпах развития отдельных органов и частей тела. Рост конечностей опережает рост тела, сердечно-сосудистая система может не успевать за ростом мышечной массы. Возникает угловатость, неловкость в движениях. Неожиданные приступы утомления (из-за нехватки кислорода в различных органах) сменяются повышенным мышечным тонусом и сверхактивностью в движениях. Но главное физиологическое противоречие обусловлено половым созреванием. Его внешние признаки хорошо известны: развитие молочных желёз, специфически женское распределение жировой ткани у девушек, ломка голоса у мальчиков, рост волосяного покрова в местах обильного потоотделения (в паху и под мышками), а также на лице (у мальчиков), наконец, появление менструаций у девочек и семяизлияний у мальчиков. Активизация гормональной деятельности щитовидной и половых желёз вызывает резкое усиление общего обмена веществ, что приводит не только к подъему энергетического тонуса, но и к повышению тонуса нервного — к большей чувствительности и раздражительности. Внешние раздражители, которые взрослому покажутся пустяковыми, могут вызвать у подростка резкий перепад настроения, а длительные неблагоприятные воздействия, усугубленные несогласованностью в работе внутренних органов, даже привести к нарушениям — функциональным расстройствам нервной системы. Отсюда — слабость сдерживающих механизмов (импульс к какой-то реакции достигает такой силы, что не может быть заторможен с помощью произвольного усилия), расстройства сна, приступы вялости, рассеянности и т. п.
Эти телесные изменения невольно приковывают к себе внимание подростка, он сосредоточивается на познании собственного организма, своего телесного «я» и начинает понимать, что он уже не тот человек, каким был в детстве, что он должен по-другому строить свои отношения с окружающими.
2. Противоречия социальной ситуации. Подросток вынужден пребывать как бы в ножницах двойной морали. С одной стороны, взрослые продолжают применять к нему «детскую мораль» (или, как ее назвал И. С. Кон, «мораль послушания»). С другой же, они начинают использовать и «мораль взрослых», требуя, чтобы подросток самостоятельно планировал и контролировал свои действия по выполнению растущего круга обязанностей. Нередко возникает разрыв между правами и обязанностями: рост обязанностей не сопровождается гармоничным ростом соответствующих прав. Подросток же требует того, чтобы ему предоставили свободу и права, не понимая еще в полной мере (в силу недостаточной социальной зрелости и сознательности), что всякая свобода сопряжена с ответственностью. Он хочет завладеть привилегиями взрослых, не принимая одновременно на себя той ответственности, которая лежит на них, игнорируя те обязанности, которые сопряжены с этими привилегиями и правами. Подросток оказывается восприимчивым к внешним признакам взрослости, к таким не самым лучшим привилегиям взрослости, как курение, употребление спиртного, свобода распорядка дня («Прихожу домой и ложусь в постель, когда захочу»), свобода выбора друзей и компаний, азартные игры, чтение книг и просмотр фильмов для взрослых (в которых снято характерное для детской морали табу на сексуальную тематику) и, наконец, свобода и автономия сексуального поведения. На ранних этапах переходного возраста половое влечение подростка еще слишком слабо дифференцировано, оно еще не сфокусировано, не опредмечено на представителях противоположного пола, но подросток уже стремится «закрутить роман», чтобы опять-таки походить этим на взрослого.
Борьба подростков за сексуальную автономию (от родительского контроля) достигла особо драматичных масштабов в связи с акселерацией. Известно, что за последние 100 лет произошел сдвиг: половое созревание завершается на 3 года раньше. Первая менструация у девочек наступает сейчас в среднем в 12 лет 7 мес. В 14 лет у половины мальчиков уже наблюдается семяизлияние (девочки более чем на год опережают мальчиков в темпах полового созревания). Большинство юношей и девушек в 15—16 лет по своему сексуальному развитию теперь соответствуют 18—19-летним в 20—30-е гг. нашего столетия. Однако время получения самостоятельного полноценного заработка, наоборот, сдвинулось на 2—3 года позднее. Образовался довольно длительный период сексуального бесправия: в течение 6—8 лет юноши и девушки, обладая не просто развитыми сексуальными потребностями, но общепризнанной всеми специалистами юношеской сверхвозбудимостью, фактически остаются в глазах взрослых детьми, на которых распространяется «детская мораль» с присущими ей сексуальными запретами. Конечно, эта проблема больше характерна для старшего подросткового (14—15 лет) и юношеского возраста (16—17 лет), но она дает себя знать уже с первыми признаками полового созревания. Испытывая на себе тяжесть давления сексуального запрета, подросток не может избавиться от плохо сознаваемого чувства протеста: «Взрослые разрешают себе то, что запрещают мне». Социальные противоречия усиливаются в тех случаях, когда родители сами постоянно нарушают законы, соблюдения которых требуют от детей: курят, пьют, смотрят до полуночи телевизор, уходят в гости и не предупреждают о времени возвращения, не убирают за собой постель или разбрасывают по комнате вещи, не отдают вовремя долги, изменяют, нарушая клятву супружеской верности, разводятся и заключают новые браки, опаздывают на работу, а то и прогуливают и т. п. Наш собственный эгоцентризм мешает нам, взрослым, понять, до какой степени остро переживает подросток чувство социальной несправедливости, когда его наказывают за нарушение таких требований, которые едва ли не постоянно и совершенно безнаказанно нарушают сами взрослые.
3. Психологические противоречия. Уже к 11—12 годам мышление ребенка развивается до уровня логических операций, он умеет абстрагировать и обобщать. Этому способствует программа школы, в которой подростки знакомятся с основами научно-теоретического мышления.
Всякая нечеткость границ между «хорошо» и «плохо», всякая непоследовательность, противоречивость поведения его прежних кумиров — родителей и учителей — остро переживается подростком. Известен подростковый максимализм: «хороший» человек не может совершать ни одного плохого поступка, иначе его нельзя считать «хорошим», «сильный» человек никогда не может позволить себе оказаться слабым и т. п. В своем поиске эталонов и авторитетов подросток ищет авторитеты и образцы для подражания вне семьи (среди кино- и литературных героев, артистов эстрады и спортсменов, старших товарищей и сверстников — лидеров подростковых групп), а также ищет опору в себе самом — пытается разобраться, насколько устойчивым эталоном для социального сравнения является он сам. Происходит огромная, напряженная внутренняя работа по самопознанию, самооценке, самоиспытанию, самоопределению. И эта работа необходима! Без нее нельзя прийти к самовоспитанию и самосовершенствованию, к самокритике и самоконтролю. Но для выполнения ее подростку нужны не только педагогические беседы об умозрительных возможностях (благоприятных и неблагоприятных), но и реальные испытательные житейские ситуации — такие, в которых только и можно испытать себя на деле, а не на словах. И этот поиск испытательных ситуаций опять-таки нередко сталкивается с родительскими запретами, с опасениями и непониманием ребенка. Дело затрудняется тем, что подросток непрерывно удивляет своей переменчивостью не только взрослых, но и самого себя. Он как бы не может нащупать свое настоящее «я». А это ему остро необходимо, чтобы занять свое устойчивое место в отношениях с людьми — взрослыми и сверстниками, чтобы понять границы своих реальных возможностей и притязаний. Не находя в самом себе нужной ему определенности, последовательности, устойчивости, не узнавая себя самого в зеркале, с изумлением изучая свои вытянувшиеся и непослушные руки и ноги, удивляясь новым ощущениям и новым потребностям, подросток нередко совершенно еще по-детски обижается на окружающих — будто это они виноваты, что не дают ему той свободы, которая ему необходима для того, чтобы обрести самого себя.
Перечисленные системы противоречий сталкиваются и взаимодействуют между собой. У каждого подростка эти противоречия разрешаются по-своему. Однако во всех случаях взрослым необходимо найти новую, обязательно новую дистанцию общения с подрастающим человеком и понять, что не все, далеко не все в его жизни зависит теперь от них, разумеется, не ослабляя своего внимания к внутреннему миру подростка, к его интересам, увлечениям.
Воспитательные воздействия должны теперь быть более косвенными: а) помощь по запросу (взрослый вмешивается в дела подростка, когда тот просит оказать ему содействие, принять участие в каком-то совместном деле), б) совместное планирование будущего, в) совместный разбор случившегося. Воспитатель должен предоставить воспитаннику возможность самостоятельно справляться с различными, в том числе и неожиданными и рискованными, жизненными ситуациями.
К сожалению, родители к моменту достижения ребенком подросткового возраста частенько затверживают до автоматизма выработавшиеся у них приемы общения с ребенком, и им оказывается очень трудно скорректировать стиль воспитания.
Привыкшим к регламентирующей сверхопеке (преобладание запретов) трудно предоставить ребенку необходимую ему свободу. Нередко после нескольких серьезных столкновений с подростком сверхопекающие родители резко изменяют свою позицию, переходя от сверхопеки к равнодушной автономии под лозунгом «Раз ты такой умный — учись на своих ошибках». К сожалению, они при этом не понимают, что ребенок, как никогда раньше, нуждается теперь в особой помощи — деликатной, ненавязчивой и уважительной, возвышающей, а не унижающей его достоинство.
Сами по себе родители к моменту достижения ребенком подросткового возраста испытывают серьезные жизненные трудности. Это время, когда молодость как таковая оказывается позади, и самым наглядным тому подтверждением является взрослеющий на глазах ребенок. Наше сознание сопротивляется, не желая признавать факт утрачиваемой молодости. Нам хочется видеть ребенка маленьким, шаловливым, но по существу зависимым и послушным детенышем. Массовыми исследованиями показано, что родители в среднем на 4—5 лет преуменьшают психологический возраст своих детей-подростков (!).
Когда подросток начинает бунтовать и требовать, бастовать и саботировать, разговаривать с нами таким же нетерпимым, командным тоном, как мы с ним, или просто тихо замыкаться в себе, или пропадать где-то вне дома целыми днями, тогда наши ожидания, что мы имеем дело с маленьким ребенком, приводят к слишком резкому контрасту в нашем восприятии этого человека — мы не узнаем его, испытываем отчуждение, будто это не наш ребенок, которого уже «испортили» улица, телевизор и недальновидные воспитатели.
Мы принимаем как бы на свой счет такие реакции подростка, которые вообще характерны для этого возраста, например повышенную ориентацию на сверстников. Мы с болезненной ревностью видим в этом симптомы отдаления ребенка от нас. А на самом деле мы остаемся просто в тылу его наступления на мир, тогда как главный фронт этого наступления — круг сверстников. Подросток стремится познать меру своей привлекательности и силы, ума и ловкости. Оценки сверстников для него оказываются важнее, чем оценки родителей, не потому, что последние лишены авторитета (они сохраняют свой авторитет, если эмоциональные связи не утрачены), но потому, что в оценках сверстников подросток вычитывает признание или отвержение его притязаний на определенную ступень в иерархии сверстников. И при этом он, как правило, пытается утвердиться среди сверстников в тех своих проявлениях и способностях, где может добиться максимально высокого признания.
Взрослые же очень часто навязывают детям стереотипные системы шкал и требований, которые противоречат стремлению ребенка доказать свою уникальность, свое неоспоримое превосходство в каком-то виде занятий. Когда единственными мерками для взрослых (и учителей, и родителей) оказываются дисциплинированность и прилежность в учении, то самые активные, самые внутренне беспокойные подростки оказываются в заведомо невыгодном положении: они не могут утвердить свой приоритет, свое превосходство по этим шкалам в конкуренции с «послушными тихонями», и, если они не находят других социально приемлемых шкал для первенства, они бунтуют — у них развивается так называемая демонстративная отрицательная идентификация с общепризнанными авторитетами и общепринятыми системами ценностей. Они все переворачивают вверх дном, наизнанку и, не имея возможности отличиться в лучшую сторону, пытаются отличиться в худшую — только бы любой ценой доказать свою исключительность.
Воспитатель обязательно должен постараться увидеть и понять скрытую, внутреннюю систему смыслов, лежащую за резкими, порой асоциальными выходками подростков. Обнаружить в них драматический поиск способов самовыражения, поиск, часто безрезультатный и потому граничащий с разрушительным протестом против регламентированных стереотипных занятий, забот и развлечений, привычных и незаметных компромиссов, присущих миру взрослых.
В поиске способов самоутверждения лежит причина того явления, которое крупный советский психиатр А. Е. Личко назвал «реакцией» увлечения» или «хобби-реакцией» подростка. «Подростковый возраст без увлечений подобен детству без игр, — пишет А. Е. Личко, выделяя и классифицируя следующие типы увлечений, которые полезно учитывать родителям.
1. Интеллектуально-эстетические увлечения: музыка, рисование, радиотехника, разведение цветов, певчих птиц. Родители к ним должны относиться с тактом и терпимостью: в подобных увлечениях содержится важнейший элемент продуктивности — ориентация на создание оригинального продукта, самовыражение в нем. Главное — суметь направить увлеченность в русло коллективизма: отыскать для ребенка подходящий кружок, в котором он нашел бы себе единомышленников и начал ориентироваться на объективные, а не на аутические (порожденные собственной фантазией) критерии качества. Другая важная задача — преодолеть желание подростка непрерывно менять предметы своих увлечений. Надо помочь ему понять, что в каждом деле есть две волны интересов: первая — от первоначального знакомства с новым предметом, а вторая — от появления первых реальных достижений — и что между первой и второй волной есть неминуемая и более или менее длительная полоса спада и разочарования, которую надо уметь перетерпеть, как приходится терпеть бегуну на длинные дистанции, когда придет второе дыхание.
2. Телесно-мануальные увлечения. Главное — направленность либо на укрепление своей физической силы и ловкости, либо на получение каких-либо искусных ручных навыков. Это не только спортивные увлечения, но и увлечения в стремлении научиться играть на гитаре, мастерить, вышивать, ездить на велосипеде, водить мотоцикл, машину, весельную или моторную лодку, парусник, кататься на роликовой доске и т. п. Для того чтобы достичь полноценного уровня самосознания и самоуважения, тесно переплетенного с признанием среди сверстников, подросток-мальчик обязательно должен владеть хотя бы одним видом спорта, связанным с передвижением (бег, велосипед, плавание), еще одним, но связанным с коллективной спортивной игрой (футбол, волейбол, баскетбол и т. п.), и, наконец, каким-то видом единоборства (знать приемы самбо, бокса или каратэ). Тогда он будет принят в какую-нибудь походную, маршрутную группу или спортивную команду, в которой про него будут знать, что он умеет постоять за себя и товарищей. Здесь опять же необходимо оказать помощь подростку в овладении каким-то из вышеперечисленных видов спорта до уровня относительного совершенства — такого, который гарантировал бы ему первенство по этому виду в любой произвольно подобранной группе. Тогда его будут ценить как «специалиста», и в таковой роли подросток сможет утвердить свою неповторимость среди сверстников. Однако следует отговорить его от преждевременного многоборья — попытки превзойти всех и по всем видам часто чреваты неудачами: подросток в каждом виде кому-то да уступает и в результате не получает желанного ему уникального статуса.
Для девочек момент спортивной конкуренции не имеет в большинстве случаев такого принципиального значения. Но им очень важно найти такой вид физических упражнений, в котором максимально бы раскрылись их привлекательные уникальные стороны — подвижность, пластика, тонкая координация, усидчивость, глазомер, способность ассистировать (превращаясь в «пасущего» в подвижных играх, в аккомпаниатора, в ведомого в танцах) и ненавязчиво лидировать, когда партнер оставляет свободной роль лидера-солиста.
3. Лидерские увлечения. Ряд подростков во что бы то ни стало стремятся утвердить свой авторитет с помощью прямого захвата роли лидера — своеобразного «главаря», подчиняющего себе сверстников. В борьбе за роль вожака они нередко должны выдерживать жестокую конкуренцию, граничащую с прямой агрессией со стороны других претендентов. Таких подростков следует убедить в том, что притязания на роль лидера не могут привести к успеху, если они не подкреплены какими-то объективными достоинствами. Лидер среди подростков — это прежде всего тот, кто выполняет какую-то значимую для группы деятельность лучше всех остальных. Непрочен авторитет, основанный на страхе перед физической силой или на зависти к достатку (фирменной одежде, спортинвентарю, наличию карманных денег). В этом случае признание лидерства группой оказывается вынужденным и временным: на самом деле группа стремится избавиться от страха и зависти и при удобном случае обязательно отомстит ослабленному лидеру за свои унижения.
Особо ценной валютой в подростковых группах является преданность, и оттого очень часто лидером становятся те, кто принимает на себя роль носителя идеи групповой сплоченности и получает приоритетное право выносить обвинения другим членам группы в предательстве (вспомним Железную Кнопку в фильме Р. Быкова «Чучело»). Ценность товарищества и преданности подростками нередко фетишизируется. Раннее воспитание на героических примерах приводит к гротесковому стремлению сколотить «партизанский отряд», «совершать подвиги», «скрываться от преследователей», «мужественно брать вину на себя во время пыток и допросов, не выдавая товарищей». А в обыденной жизни с зарегламентированными повестками комсомольских собраний и мероприятий трудно отыскать место подвигу, способ испытания своей смелости и преданности. Сами собой (ситуативно, импульсивно, спонтанно) рождается идея совершить асоциальный, осуждаемый взрослыми поступок — совершить группой, «втихаря», создав угрозу разоблачения и наказания со стороны взрослых. Не находя себя в учебе или продуктивных занятиях, требующих терпения и усидчивости, сверхактивные подростки (заводилы) нередко пытаются утвердить себя в качестве вожаков-идеологов антиродительского, а то и просто асоциального «движения протеста». Цель протеста не созидать, а нарушать и разрушать. Сверстникам же они навязывают опасную игру по логике «предатель-непредатель», где признаком «храбрости» и «доблести» отмечается именно преданность асоциальному вожаку. К несчастью, взрослые, не вникая в смысловые тонкости этой логики и не направляя в приемлемые русла активность «лидеров оппозиции», нередко безвозвратно утрачивают нити управления коллективом.
Задача эффективного противодействия подобным лидерским увлечениям должна решаться с помощью предоставления подросткам, испытывающим острую потребность в риске, таких занятий, которые бы направили «энергию подвига» в мирное русло. При этом импульсивную энергию удается снимать, если придумать для детей интересную для них задачу на выносливость, где «предателем» становится тот, кто сошел с дистанции и не довел дело до конца. Хороши здесь бригадные формы организации производительности труда подростков по месту жительства — с настоящей оплатой по результатам труда. Не доведено дело до конца — вся бригада не получает оплаты! Именно тогда лидерские увлечения направятся в русло сплачивания дружных бригад. Задача родителей подростков не оставлять детей на улице, не отмахиваться от них равнодушно — «армия перевоспитает», а опережать в проявлении инициативы, разжигать интерес к созидательным способам проявления самостоятельности. Трудные подростки — это симптом отстраненности взрослых от детей, результат равнодушия, тактики пассивных угроз. Но к взрослым, проявляющим выдумку и изобретательность, поощряющим самостоятельность, подростки тянутся сами.
4. Накопительские увлечения. Страсть к коллекционированию — симптом повышенной потребности в самоутверждении с помощью обладания материальными благами и ценностями, а значит, не вполне социально благоприятного развития личности. Если ваш ребенок не собирается быть завскладом или товароведом, то такое увлечение вряд ли можно считать предвестником счастливой профессионализации. Стоит подумать, не проявляется ли в этом увлечении дефицит развития личных способностей подростка, дефицит суверенитета и персонального пространства. Может быть, стоит своевременно откликнуться на просьбы подростка купить велосипед, лыжи или радиоконструктор, доверить ему работу на пишущей машинке, т. е. развивать более созидательные формы увлечений. Ведь потребность в обладании собственностью может разрастись до гипертрофированных размеров, когда недалеко и до стяжательства. Конечно, в накопительстве есть и определенный плюс — развивается аккуратность, педантичность, бережливость в отношении к вещам. Но зарождение спекулятивных тенденций надо своевременно выявлять и предупреждать предложением и поощрением других увлечений.
5. Эгоцентрические увлечения. Это участие в любительских эстрадных ансамблях, в спортивных соревнованиях ради славы и почестей, увлечение экстравагантной, модной одеждой. Главное здесь — стремление привлечь к себе внимание. Демонстративная сторона увлечения преобладает над всеми другими. Изыскивая для себя какое-то хобби, подросток заботится не об обеспечении высокой внутренней заинтересованности и высоких реальных достижений, а о том, чтобы поразить окружающих оригинальностью своих интересов. Как только удивление окружающих спадает, ненасытная демонстративность толкает такого подростка искать новое увлечение. Однако чрезмерное увлечение такого рода обычно выступает признаком дефицита эмоционального участия в жизни подростка со стороны близких, прежде всего родителей. Смысл некоторых нелепых и внешне просто глупых выходок подростков — привлечь внимание к себе и своим проблемам. Это иносказательный запрос о помощи! А взрослые, к несчастью, частенько бывают просто глухи к такому иносказательному языку — раздражаются, угрожают и наказывают (за поступок, имеющий совершенно другой смысл!), а то и просто проходят мимо.
6. Азартные увлечения. Мы уже говорили о стремлении подростка создавать различные испытательные ситуации — с риском побед и поражений, приобретений и потерь. Дефицит риска при наличии размеренной, регламентированной жизни «школа — уроки — телевизор — школа» подростки пытаются компенсировать с помощью картежных игр, заключения разного рода пари на деньги, игр в «расшибалку». Чтобы направить потребность в риске в приемлемое русло, следует подумать о том, как превратить учебные занятия и домашний повседневный труд подростка в более «азартное» занятие. Речь не о денежных выплатах — подросток с не меньшим азартом может биться и за аналогичные спортивные очки. Но в отличие от младшего школьника он хочет, чтобы эти завоеванные очки давали ему какие-то блага и привилегии, ибо как же приятно потреблять блага, которые ты добыл своим трудом — тем более если добыл, рискуя. Значит, надо моделировать в жизни подростков ситуацию «опасность — усилия — результат», без которой многие из них не ощущают собственную жизнь полноценной.
7. Информативно-коммуникативные увлечения. А. Е. Линко относит сюда многочасовое сидение у телевизора, пустую болтовню с приятелями, глазение на происходящее вокруг, проглатывание приключенческой литературы без всякого проникновения в содержание. Здесь мы имеем дело по существу с псевдоувлечением — пассивное поглощение информации заменяет отсутствие настоящих увлечений. Такое времяпрепровождение характерно для боязливых и не уверенных в себе подростков. Свою потребность в риске и приключениях они удовлетворяют с помощью сопереживания литературным или киногероям, демонстрируя симптом дефицита защищенности. А это значит, что подростка надо включать в такие коллективы, которые гарантировали бы ему чувство защищенности. Поскольку благодаря накопленной эрудиции такие подростки часто побеждают в разного рода викторинах и конкурсах знатоков, им следует предоставить возможность реализовать свой информационный багаж — проводить политинформации в классе, участвовать в кружках любителей истории, географии.
Трудный возраст — это период критического отношения к миру взрослых, к себе, к родителям. Взрослым нужно постараться не противопоставлять себя подростку в этом, а разделить с ним его трудности и сомнения, обсуждая с ним его проблемы и уважая право на свое мнение и точку зрения. Главное же для родителей — это вскрыть и разоблачить в себе ревность от утраты позиций непререкаемого авторитета и вершителя детской судьбы. Надо надеяться на тот запас лучшего, который вы успели создать в душе ребенка своей любовью и заботой о нем в более ранние годы его жизни. Надо предоставить подростку свободу в поиске новых авторитетов и кумиров и с терпимостью относиться к его стремлению подражать какому-нибудь сверстнику-лидеру, киногерою, старшему товарищу. Путем подражания разным людям и персонажам подросток осуществляет поиск своего нового, взрослого «я». Надо даровать ему самостоятельность в поисках способа самоутверждения в коллективе сверстников. «А когда же направлять и предупреждать от роковых ошибок?!» — возразит озабоченный родитель. Что ж, для этого есть масса возможностей, которые мы просто не замечаем и не развиваем. Подросток редко обращается к нам за советом вовремя — мы либо заняты, либо куда-то спешим, либо уже хотим дать свой собственный, заготовленный, «выстараданный» совет. Просьба о помощи часто формулируется неявно, и мы просто не узнаем его. Но, откликаясь дружелюбно, терпимо и внимательно на каждый такой запрос, мы повышаем свои шансы на то, что частота этих запросов возрастает, и мы постепенно превратимся из «гневно осуждающего» родителя в верного друга-советчика, которому можно доверять душевные тайны.