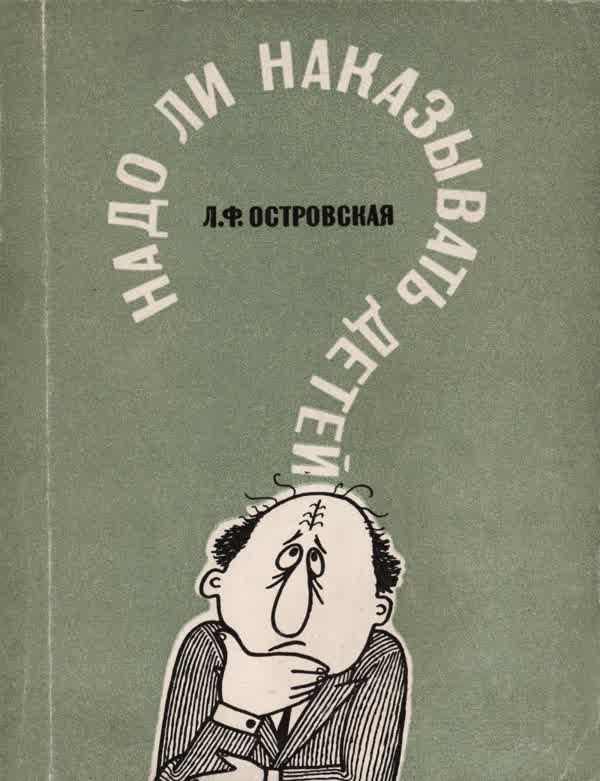
СЛУЧАЙНО ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННО?
Добиваясь беспрекословного послушания от детей, родители подчас забывают о возрастных особенностях их ребенка — о его жадном стремлении познать окружающее, желании проявить самостоятельность. Иногда взрослые склонны видеть злонамеренность и непослушание там, где их в действительности нет.
...Четырехлетние девочки-близнецы решили прополоть грядки с огурцами, чтобы помочь маме. Когда мама ушла к соседке по даче за лейкой и лопаткой, девочки приступили к работе. Дело это казалось им совсем простым: они видели, как это делала хозяйка дачи и мама. У хозяйки это получалось особенно быстро, ловко, только руки мелькали; не успеешь оглянуться, как на грядке вместо беспорядочно торчащей травы, выстраиваются стройные ряды огуречной рассады! Но мама вчера почему-то не разрешила девочкам помогать ей полоть. Зато сегодня они это сделают сами. То-то мама обрадуется! Это будет для нее сюрприз.
Когда мама вернулась, значительная часть рассады уже была вырвана вместе с травой и лишь кое-где торчали одинокие травинки...
Не стоит описывать негодование матери. Вся эта история кончилась тем, что обе девочки были наказаны: мама одна ушла на станцию встречать папу, а плачущие Наташа и Иринка остались дома.
А может быть девочек наказали зря?
Посмотрим, каковы мотивы совершенного детьми поступка: сделать сюрприз маме, порадовать ее тем, что они сами могут делать что-то полезное. Правда, мама накануне не разрешила девочкам полоть, но почему — не объяснила. И вот результат: их благие намерения выглядели как «злостный поступок», вместе с сорняками пострадала огуречная рассада.
Мама не искала причин, толкнувших ребят на такой поступок. Она видела только причиненный детьми ущерб. В результате — дети наказаны. А все могло бы быть иначе.
Если до конца быть откровенными, то придется признаться, что часто мы наказываем своих детей зря, не разобравшись по-настоящему, каковы мотивы их проступка. Такое случается по разным причинам: потому что нам «некогда» вникать в мотивы поступка ребенка; потому что, не считаясь с возрастом ребенка, мы требуем от него большего, чем он может; а иногда и потому, что сгоряча слишком строго оцениваем его поступок.
Для того чтобы понять мотивы детского поведения, надо хорошо понимать ребенка и знать его особенности.
Что мы имеем в виду, когда говорим о детских особенностях? Это возрастные и психологические особенности, индивидуальные особенности нервной системы и умственного развития ребенка.
В настоящей главе мы коротко остановимся на особенностях детей дошкольного возраста, влияющих на их поведение.
Ребенок на все реагирует быстро, непосредственно и очень эмоционально. Чем меньше ребенок, тем большей импульсивностью отличаются его действия.
В своем поведении маленькие дети больше руководствуются чувствами, чем разумом. Различные чувства — страх, гнев, жалость часто становятся движущей силой поступков ребенка. Чем меньше ребенок, тем больше он находится во власти чувств.
Дети двух-трех лет особенно импульсивны, возникшее желание у них тотчас выражается в действии: отбирает у своего соседа понравившуюся игрушку, толкает обидчика, заступается за товарища. Так он действует без особых раздумий, под влиянием чувств.
Кому не приходилось наблюдать, как быстро меняется настроение у маленьких детей: слезы сменяют смех, и наоборот.
Чем объясняется детская импульсивность?
У маленького ребенка нервная система еще не сформировалась, процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Вот почему все, что связано с «тормозами», не всегда удается малышу. Этим же объясняется то, что у дошкольника слабо развита воля.
Малыш, например, не способен ждать, согласиться с отменой обещанного, нельзя его заставить подождать есть, если он голоден, так как это требует волевого усилия. Все это, конечно, влияет на поведение детей.
Не следует запрещать маленькому ребенку того, что для него является естественной потребностью, так как это будет вызывать протест, выражающийся в непослушании, капризах. Например, невозможно требовать от малыша, чтобы он долго сидел неподвижно, лишать общения с товарищами, лишать игры или внезапно прерывать игру.
Маленькие дети быстро утомляются. Родителям нужно это учитывать, так как нередко причиной отклонений в детском поведении может явиться нервная перегрузка. Что может вызвать переутомление у дошкольника? Можно впасть в ошибку, если считать, что ребенок устает от тех же причин, что и взрослые. Одна из характерных особенностей, присущая именно ребенку, — быстрая утомляемость не от движений, а от невозможности двигаться или от однообразной деятельности.
Иногда родители недоумевают: неужели малыш устал от того, что он долго сидел в вагоне метро, или на скамейке в сквере, или в детской коляске. Ведь он же сидел! Не мог же он устать от этого! Просто он капризничает. И родители возмущены.
Известно, что дети подолгу могут играть, бегать, быть занятыми своими детскими делами и при этом не проявлять никаких признаков усталости.
Замечательный русский педагог К. Д. Ушинский, глубоко понимая детские особенности, писал: «Основной закон детской природы можно выразить так: дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием и односторонностью. Заставьте ребенка сидеть — он очень скоро устанет; лежать — то же самое; идти он долго не может, не может долго ни говорить, ни петь, ни читать и менее всего долго думать; но он резвится и движется целый день, переменяет и перемешивает все эти деятельности и не устает ни на минуту, а крепкого детского сна достаточно, чтобы возобновить детские силы на будущий день»1.
Отсюда вывод, напрашивающийся сам собой: всякая муштровка, к которой прибегают «строгие» родители, — «сиди спокойно», «замолчи», «не шуми», «не бегай» — не дает результатов и даже, наоборот, еще больше возбуждает ребенка. Поэтому неправильно поступают те родители, которые, чтобы унять ребенка, заставляют его подолгу сидеть на стуле или стоять «в углу», у стенки, а то и укладывают его в постель. Детям нелегко дается такая «неподвижность», они обычно начинают вертеться, вести себя беспокойно. Такие методы укрощения расшумевшихся детей приводят к тому, что, утомившись от бездействия, они с удвоенной энергией начинают шалить. Взрослые думают, что ребенок делает «назло» им, а оказывается, что его организм нуждается в двигательной разрядке. Если же он лишен такой возможности, то начинает кричать, плакать, упрямиться, капризничать.
Известно, что один и тот же подход к разным детям не дает одинаковых результатов. Объясняется это тем, что сколько детей, столько и разных характеров, отдельных особенностей, присущих только одному ребенку и не повторяемых в другом. Это всегда надо учитывать взрослым в выборе мер воздействия.
Например, на одного благоприятно влияет замечание, сделанное твердым, может быть, даже резким тоном, а для другого такое воздействие окажется «непосильным», он расплачется. Такой ребенок лучше реагирует на замечание в мягком тоне. Третьему достаточно, что называется, выразительного взгляда или порицающего покачивания головой.
Чем это объяснить? Прежде всего здесь играет роль привычка ребенка к определенным мерам воздействия. Однако приходится считаться и с тем, что каждый человек наделен от природы определенными особенностями нервной системы. В зависимости от этого одни дети более возбудимы, подвижны, другие — уравновешены. Эти особенности играют немаловажную роль в жизни человека, придают своеобразие его личности. У детей-дошкольников наиболее отчетливо проявляются эти различия.
Что может произойти, если в подходе к ребенку не учитывать его особенностей?
При слишком суровом подходе к детям тихим, застенчивым, частых наказаниях их за случайные промахи, проступки развивается забитость, робость. Дети начинают испытывать страх не только перед суровыми родителями или воспитателями, но и перед сверстниками, боятся их насмешек, избегают участия в общих играх. Такая мнимая неловкость, чрезмерная робость будет и в дальнейшем мешать ребенку: он с трудом сходится с коллективом, пассивен на занятиях, стесняется проявить себя в любой деятельности, не умеет постоять за себя.
Дети неуравновешенные, у которых преобладает реакция возбуждения над тормозными процессами, отличаются шумливостью, подвижностью, непоседливостью. Такие дети причиняют взрослым много хлопот, так как они шаловливы, непослушны.
Если по отношению к таким детям родители или воспитатели часто применяют наказания за случайные проступки, за неумение себя сдерживать, то у них вырабатывается агрессивность, готовность к отпору, к самозащите. Они легко вступают в конфликты со сверстниками, с родителями, обижают слабых, нарушают установленный порядок. Это те «трудные» дети, которые нередко становятся дезорганизаторами коллектива.
Таким образом, учитывая особенности личности ребенка, надо избирать определенный подход к нему. Это даст возможность родителям и воспитателям избегать наказаний или прибегать к ним лишь в крайних случаях.
...Слава вместе с мамой вошли в кабинет заведующей детским садом. Славе скоро пять, но он впервые в детском саду. Еще в дверях он произносит «здрасьте!» и с интересом оглядывается по сторонам. Слава «не слышит» вопросов заведующей, обращенных к нему, он без спроса хватает альбом с картинками, берет со стола линейку, пытается открыть шкаф с игрушками, поминутно спрашивает: «Это для чего?», «Зачем это?», «Это чье?».
Мать, краснея за поведение сына, рассказывает, что он очень непоседливый, непослушный.
— Построже с ним, пожалуйста, у меня это как-то не получается. И лаской и наказаниями с ним, а ему все нипочем.
Первое время в детском саду Слава своим поведением доставлял немало огорчений и воспитателям и детям: с трудом подчинялся режиму, отнимал у детей игрушки, обижал ребят даже старше его по возрасту. Воспитательнице подчинялся с трудом, оставаясь «глухим» к ее указаниям. Недисциплинированное поведение мальчика плохо влияло на остальных детей. Пытались делать ему замечания в мягкой форме:
— Слава, так поступать нельзя. Посмотри: все дети кладут игрушки на место, и ты должен так же, как они, поставить машину в гараж.
Но Слава делал по-своему.
Пытались наказывать: сажали его на стул отдельно от детей, объясняя за что его наказывают. Но это нисколько не удручало мальчика: посидев несколько минут, он как ни в чем не бывало слезал со стула и присоединялся к играющим.
Воспитательница, наблюдая за Славой, видела, что когда он занят каким-либо увлекательным делом, он меньше шалит, поведение его становится более уравновешенным. Но стоит ему остаться ничем не занятым, как его кипучая энергия тотчас проявляется в шалостях.
Ясно, что у таких детей, как Слава, с неуравновешенным типом нервной системы, надо постепенно тренировать тормозные процессы, переключать их с подвижных игр на спокойные, следить за ними, чтобы они были постоянно заняты чем-то полезным.: Однако время от времени надо давать возможность таким детям «разрядить» свою энергию в подвижных играх, в интересных формах трудовой деятельности, увлекательных занятиях.
Такие ребята, как Слава, доставляют неприятностей и родителям и воспитателям больше, чем другие. «Выйдя из терпения», взрослые прибегают к наказаниям. Вот в этом-то и есть их основная ошибка: на таких детей особенно вредно действуют частые наказания, ограничивающие их свободу, активность. Такие наказания перегружают и без того слабый тормозной процесс и лишь усиливают возбудимость ребенка.
В детском саду и дома Славу старались приобщать к полезному делу, следили за ним, чтобы он не оставался не занятым. Вот папа ремонтирует полочку — и сын здесь же, он подает молоток, гвозди, вместе они намечают, где ее повесить. Папа склонился над чертежами (он готовится к зачету) — и сын возле него рисует, вырезает фигурки из бумаги и наклеивает их.
В детском саду Слава постоянно чем-то занят, то дежурит по столовой, то помогает воспитательнице подготовить материалы к занятию, то вместе с ней наводит порядок в шкафу, где хранятся детские рисунки, лепка, работы по конструированию. Да мало ли интересных дел! А главное, мальчик был всегда занят чем-то интересным.
Конечно, не сразу удалось нормализовать поведение Славы, он часто «срывался», обижал других детей. Однако воздействовать на него теперь было уже значительно легче. Достаточно было воспитательнице сказать ему: «Слава, ведь я считала тебя своим помощником, а какой же ты мне помощник, если так ведешь себя?», как мальчик притихал, словно подтягивался.
Из этого примера видно, насколько важно знать особенности детей для того, чтобы определить правильный подход к каждому из них.
Знание возрастных и индивидуальных особенностей ребенка необходимо взрослым для правильного его воспитания и, в частности, для правильного воздействия на него в том или ином конкретном случае. Однако надо отметить, что особенности нервной системы нельзя рассматривать как что-то раз навсегда данное человеку и неизменяющееся. Под влиянием воспитания поведение человека меняется. Например, воспитывая ребенка сильно возбудимого, такого как Слава, надо тренировать его волю, умение сдерживать себя. И чем раньше вы начнете воспитывать в детях эти качества, тем успешнее пойдет воспитание.
Неправы родители, думающие, что черты характера ребенка наследуются им от родителей и поэтому перевоспитанию не подлежат. Они беспомощно опускают руки, не веря в силу воспитания, так как ребенок «весь в отца» или «весь в мать».
Сходство характеров объясняется не наследственностью, а влиянием окружающих людей, стремлением малыша подражать им.
Например, пятилетний Игорь во всем старается походить на отца: ходит широкими шагами, закладывая руки за спину; когда рассматривает книгу, то садится развалившись в кресле, вытянув ноги, при разговоре с людьми у мальчика в голосе слышатся те же интонации, что и у отца, даже к маме он относится с оттенком пренебрежения, часто повторяет отцовские фразы: «Ну, что торопишь — не видишь, я занят?» или «Оставь меня в покое, не действуй мне на нервы!»
Такое поведение надо бы пресечь, но мама вздыхает и говорит при ребенке:
— Весь в отца! Ну буквально все отцовское в нем. Надо же так уродиться — два экземпляра под копирку!
В голосе мамы больше любования, чем осуждения, и пятилетний мальчик это чувствует.
Поведение детей зависит от того, что они наблюдают, что видят и слышат дома, на улице, в детском саду. Дети дошкольного возраста обладают очень большой подражательностью, и все виденное отражается в их поведении.
...Мишин папа пришел в детский сад за сыном. Миша, радостный и сияющий, выбежал ему навстречу. Мальчик, переполненный впечатлениями дня, с интересом стал что-то рассказывать папе. Одевая сына и слушая его рассказ, отец вдруг сказал:
— Не ври! Будет тебе заливать!
Пятилетний малыш воспринял реплику отца как должное и продолжал свое нехитрое повествование.
— Во дает!.. — поощрительно поддакнул ему отец.
А мальчик, видимо, уже основательно пополнивший свой лексикон папиными словами, так и сыпал: «бабка», «не ори», «как съездил ему», и т. п.
Почему отец не поправляет мальчика? Оказывается, ему забавно слышать из уст малыша грубые слова. По его мнению, в этом есть какой-то «мужской шик». На тактичное замечание воспитательницы отец ответил:
— Ничего, он мальчик. Ведь не кисейную барышню ращу, а мужчину! Правда, Мишук, мужчиной будешь, — заключил он, подхватывай малыша на руки.
В детском саду Миша тоже употребляет «папины» слова. А когда воспитательница поправляет мальчика, он не может понять, почему и за что его порицают — ведь сам папа так говорит!
Разве не бывает так, что мы, возмущаясь дурными привычками, грубыми выходками ребенка, недоумеваем: «Откуда это у него? Ведь такому не учим!..» Действительно, учим хорошему словами, нотациями, а быт семьи, нравы, весь уклад жизни не подкрепляет наши благие намерения.
Неприятное впечатление вызывает маленький ребенок, говорящий взрослым: «Сиди уж и помалкивай! Тебя не спрашивают!» (это бабушке), «Ну-ка, поворачивайся живее, а то из-за тебя не пройти!» (это маме), «Ты, неряха-растеряха, вечно что-нибудь ищешь!» (это отцу) и т. п.
Конечно, пяти- — шестилетний ребенок не сам до этого додумался. Нетрудно догадаться, что подобные фразы при нем часто произносят взрослые члены семьи и в разговоре друг с другом и с ребенком. Однако, услышав подобную грубость от детей, родители возмущаются и тотчас призывают их к ответу, наказывают, заставляют просить извинения. Ребенок, глядя исподлобья на отца или мать, возражает:
— А ты сама так говорила, сама!
Разгорается конфликт. Взрослые обвиняют ребенка в дерзости, непослушании, а сын или дочь упрямо повторяют свое. Наказание не приносит желаемого результата. В лучшем случае ребенок, испугавшись наказаний, в дальнейшем не будет больше произносить грубости в присутствии взрослых. Зато в их отсутствие он будет отзываться о своих близких без должного уважения.
Очень рано у детей начинает проявляться тяга к самостоятельности. Желание самостоятельно действовать в сочетании с подражательностью и неумением оценить свои силы и возможности иногда может явиться причиной детского проступка.
Малыш забивает гвозди («как папа»), выбрав при этом самое видное место в стене, «чинит» стул так, что окончательно ломает его, «вытирает» пыль с трюмо («как мама») и разбивает вазочку...
...Трехлетняя Дашенька подметает веником пол. Паркет в комнате только что подметен и натерт до блеска. Поэтому девочке неинтересно подметать пол, на котором ни соринки. Пока мама занята в другой комнате, малышка приносит из кухни корзину с мусором и рассыпает его по комнате: теперь она подметает не «понарошку». В воздухе облако пыли от «взаправдашнего» Дашиного подметания.
Можно себе представить гнев мамы: такое натворить после генеральной уборки!
А может быть, девочка такое натворила потому, что ей хотелось работать, как мама? Ведь мама не нашла для дочери никакого посильного ей дела, а желание проявить самостоятельность и быть похожей во всем на маму было у девочки так велико! Этот случай должен был подсказать матери: пора дать малышке дело, хотя бы совсем маленькое, незначительное...
По мере роста ребенка возрастает и его самостоятельность. Стремление к самостоятельности может проявляться при неправильном воспитании в упрямстве, капризах, своеволии, стремлении настоять на своем.
Часто проступок невольно совершается ребенком из-за желания доказать: «я все могу», «я уже большой».
...Четырехлетний Валя перепрыгивает через лужу и... попадает прямо в самую середину. Брызги летят маме на платье... Идя по лестнице, мальчик спрыгивает вниз сразу через несколько ступенек. Валя в восторге от собственной храбрости: «Мама, посмотри, как я умею!» Он удивлен: почему мама осуждает его поступок?
Нельзя забывать и о таких детских особенностях, как активность и любознательность. Начиная с четырех-пяти лет, а иногда и раньше у детей появляется «исследовательский» интерес: «что будет, если...»
...Вите третий год. Он в кулачок зажимает карандаш и водит по чистому листу бумаги. Это интересно: на бумаге остаются черные полоски, завитки, точки, кружочки. А если попробовать на клеенке или на обоях? Оказывается, и на них можно рисовать карандашом.
Ребенок растет, растет и его активность, которая побуждает его к новым «исследованиям». Он «экспериментирует» с карандашом, ножницами, песком, водой, потрошит игрушки — малыш познает мир.
Ребенок пяти — семи лет стремится сам ответить на ряд интересующих его вопросов, самостоятельно познать что-то новое, интересное, для него неизведанное. Часто такая любознательность и становится мотивом детского проступка.
Что внутри заводной черепахи, почему она двигается, если ее заводишь ключом? Надо сломать и посмотреть... Карандаш легко строгается ножиком, палочка и прутик — тоже: они деревянные. А стол?..
Бумага режется ножницами, кусок полотна — тоже. А клеенка? Коробка картонная? Дедушкин футляр для очков?..
Ребенок делает много удивительных для себя открытий, и ему часто бывает непонятно, почему взрослые неодобрительно относятся к этому.
Взрослые должны помочь ребенку в познании мира, помочь разобраться в том, что полезно, а что вредно, что можно, что нельзя. Иначе любая «проба» может привести к проступку.
В дошкольном возрасте игра — основной вид деятельности. Хорошая игра с положительным содержанием является сильным средством воспитания. В игре дети отражают окружающую действительность, отображают то, что произвело на них наибольшее впечатление. Однако, не всегда умея отличать положительные явления от отрицательных, в силу недостаточного опыта, дети могут взять на себя и отрицательные роли. Например, изображать пьяных и драться.
В таких случаях ребенка надо отвлечь, переключить на другие игры иного, положительного содержания, но которые могли бы дать разрядку детской активности.
Ребенок, взяв на себя определенную роль, настолько «растворяется» в ней, что забывает об окружающем. Увлеченность ребенка игрой так велика, что хотя он и понимает, что в игре «понарошку», что «взаправду», испытываемые им при этом чувства глубоки и сильны.
— Я пускаю ракеты на Марс! — восторженно восклицает шестилетний Валя, подбрасывая подушку к потолку.
Угодил в люстру, доволен и заявляет:
— Чуть не залетел на другую планету!
Для того чтобы детские игры имели воспитательную ценность, надо руководить ими. Это не потребует у родителей специального времени: даже занятые своим делом родители могут уловить, каково содержание детской игры, способствует ли она формированию лучших человеческих качеств, содействует ли развитию инициативы, самостоятельности, коллективистских черт.
Каждому, наверное, приходилось наблюдать, как у играющего ребенка камешки превращаются в сахар, стулья — в корабль, в самолет, в ракету; сам ребенок становится то летчиком, то космонавтом, то капитаном корабля. Он воображает себя то в далеком плавании, то парящим под облаками, то пробирающимся среди полярных льдов... Без воображения, фантазии не была бы возможной ни одна игра.
Фантазия позволяет малышу как бы осуществить те желания, которые в действительности пока неосуществимы. Вот почему ребенок часто не способен отличить желаемое от действительного и невольно становится лгунишкой.
...Рита рассказывает воспитательнице:
— Скоро у меня день рождения и мне станет уже шесть лет, как и моему брату Жене. Мама мне купила подарок — платье в горошек. Оно красивое очень...
Вмешивается Ритин брат:
— И неправда это! Рите будет только пять лет. А когда ей будет шесть, так уже мне семь исполнится! И платье ей мама еще не купила, а только собирается!..
Стоит ли порицать Риту за ложь?
Девочка настолько ясно представляла себя в нарядном платье, которое ей обещали купить, что когда она начала рассказывать о нем, сама уже была убеждена в реальности того, о чем говорила.
Воспитательница, не ущемляя самолюбия девочки, уточняет:
— Ничего, что еще не купили платье. Мама непременно купит: она ведь обещала Рите.
Девочка благодарно кивает головой:
— Я даже это платье в витрине видела...
Не стоит в таких случаях говорить ребенку: «Не ври».
Иногда ребенок искажает факты потому, что они сразу были восприняты им неправильно из-за конкретности, образности его мышления, отсутствия достаточного жизненного опыта.
Случается, что дети, которые растут в семье, где они лишены достаточной теплоты и ласки со стороны взрослых, стараются привлечь к себе внимание с помощью вымысла. Малыш жалуется на то, что у него болит голова, или просит есть, в то время как в действительности голова у него не болит и есть он не хочет. Делает он это для того, чтобы взрослые обратили на него внимание, посочувствовали ему.
Но ребенок дошкольного возраста может и сознательно говорить неправду, желая из обмана извлечь какую-то пользу для себя, например избежать наказания или получить желаемое.
Причиной сознательной лжи могут явиться частые наказания ребенка за незначительные провинности, причем наказания, унижающие детское самолюбие.
В таких случаях ложь может стать привычным способом защиты. Иногда родители допускают ошибку, когда наказывают ребенка за проступок, в котором он чистосердечно признался. В следующий раз он попытается уйти от наказания, скрыв правду.
Многое зависит от того, как взрослые, пытаясь выяснить истину, сформулируют вопрос, обращенный к ребенку. Вот, к примеру, один звучит так: «Кто сломал эту куклу?», а другой так: «Как же так случилось, Лида, что ты сломала кукле руку?» В первом случае ребенку легко уклониться или промолчать, а то и не устоять против соблазна свалить вину на другого. Второй вопрос конкретен — от объяснения не уйти.
Взрослые должны в подобных случаях не гасить детское чистосердечие, а побуждать их к откровенности, правдивости.
Родители и педагоги, воспитывая в детях правдивость, честность, нетерпимое отношение ко лжи, должны учитывать особенности детской психики, их восприимчивость к примеру окружающих. Если ребенок растет в семье, где царит атмосфера взаимного доверия, уважения, правдивости, то у ребенка не будет причин прибегать к обману.
Честность, искренность, доверие к ребенку должны сопутствовать детской жизни. Тогда они станут свойством личности ребенка. Если ребенок груб, эгоистичен, неправдив, мы склонны относить это за счет врожденных свойств: «Да разве мы воспитываем в нем эти качества?»
Это верно, что все родители хотят видеть у своих детей самые лучшие человеческие качества. Но создали ли они условия для их формирования? Чтобы ребенок был правдивым, необходимо поставить его в такие условия, при которых он не мог бы прибегать ко лжи.
Понятие о честности начинает формироваться у детей очень рано, под влиянием окружающих близких людей.
А. С. Макаренко указывал: «Честность не падает с неба. Она воспитывается путем ряда приемов. Нужно внимательно следить за развитием честности у детей. Не следует нарочно прятать от ребенка. Нужно приучать не брать без спроса, если даже лежит на виду, не заперто. В то же время не должно быть такого порядка, когда все лежит плохо, никто не помнит, где что положено. В таком беспорядке у ребенка развивается самовольное отношение к вещам, он приучается к нечестному поведению. Если ребенку дано какое-либо поручение, обязательно проверяйте, пока не выработаются твердые правила честности. Честность нужно воспитывать с раннего возраста. Если вы к 5 годам запустили это дело, будет трудно исправить упущенное»2.
Устрашениями, запугиваниями и наказаниями воспитать честность нельзя. Боясь наказания, ребенок может сказать неправду, лишь бы его избежать. Ласковый тон, теплые отношения, основанные на доверии, рождают откровенность, предохраняют ребенка от обмана.
Причиной неправильного поведения ребенка может быть изменение привычных для него условий, отклонения в режиме, перенасыщение большим количеством новых впечатлений.
...Сережины папа и мама ждут гостей. В доме суета, каждый занят хозяйственными приготовлениями. Общее возбуждение передается и малышу, он бегает по комнатам, крутится в кухне, лезет под руки и всем мешает. То и дело слышится:
— Сережа, не разбей тарелку!
— Сережа, уходи сейчас же отсюда и не мешай!
— Сережа, пойди в комнату и займись чем-нибудь!
Но пятилетний мальчик считает, что как раз самое интересное быть возле взрослых и видеть, как они ловко управляются с необычными делами.
— - А правда, что у нас сегодня новоселье? А новоселье — это праздник? Новоселье — это когда новое веселье, потому что в новый дом переезжают? Ведь да? — так и засыпает вопросами взрослых Сережа.
Но взрослые только отмахиваются от мальчика: «Не до тебя тут!», «Отстань ты со своими вопросами!», «Потом, потом...»
Не обошлось, конечно, без разбитой чашки, без шлепков и слез. Дневной сон не состоялся: Сережа никак не мог заснуть.
Вечером пришли гости. Каждый одаривал мальчика — кто сладостями, кто игрушкой. Сережа стал центром внимания, читал стихи, водил гостей по квартире: «Это наша ванная, здесь повернешь кран и — теплая вода!»
А потом о Сереже забыли. Дяди и тети шумели, смеялись, говорили о непонятных своих делах. Мальчику стало скучно. Как обратить на себя внимание? Он шалил, капризничал, а потом ушел в прихожую, чтобы надеть там бабушкин жакет и шапку и предстать перед гостями «ряженым» — то-то будет весело!
Но вышло совсем не так, как думал Сережа. Бабушкин жакет оказался на вешалке внизу, под ворохом одежды гостей, и достать его было трудно. Табуретка, на которой стоял мальчик, выскользнула из-под его ног, Сережа рухнул на пол, потянув за собой все, что было на вешалке...
День для Сережи закончился плохо: мама нашлепала его («Не умеешь вести себя при людях!»), отвела в другую комнату и раньше обычного уложила спать.
Уравновешенный и обычно послушный Сережа вел себя не так, как всегда. В чем тут дело? Можно ли рассматривать поведение мальчика как злостное?
Сережа весь день был предоставлен самому себе, был по существу лишен нормального режима, днем не спал, перенасытился новыми впечатлениями. Все это перевозбудило нервную систему мальчика. В общей суматохе он не мог найти себе полезного дела, всем мешал, вызывая недовольство. В итоге — шалости, капризы и наказание.
Самые маленькие дети, в возрасте до трех лет, особенно остро чувствуют изменения привычных для них условий. Кому из родителей не приходилось наблюдать, как менялось поведение их ребенка, впервые поступившего в детский сад? Иногда ребенок начинал вести себя агрессивно, отнимал игрушки у детей, вступал в драку, пронзительным криком выражал протест. Чем это объяснить? В первую очередь тем, что, очутившись в новой обстановке, ребенок не может сразу включиться в новые для него отношения. Дома он привык, что внимание взрослых направлено на него одного, в детском саду — на всех детей группы, дома он один владел игрушками, а здесь — все дети претендуют на право игры в них. Все это выводит малыша из равновесия.
Причиной необычного поведения маленького ребенка, как уже говорилось, может явиться переутомление нервной системы. Перевозбужденный ребенок ведет себя необычно, совсем не так, как в спокойном состоянии.
Не в меру расшумевшегося малыша трудно остановить. Уговоры не действуют, запретов не существует, ребенок будто нарочно делает то, что нельзя.
В таких случаях одергивания только возбуждают ребенка. Лучший способ унять малыша — переключить его внимание, например, на тихую игру, рассматривание книги с картинками, можно рассказать ему короткий интересный рассказ или сказку, или, наконец, увести его погулять, чтобы физической нагрузкой дать разгрузку нервному перенапряжению.
Чем объяснить, что дети, зная правила поведения, часто их нарушают и, вопреки ожиданиям взрослых, не поступают в соответствии с ними? У детей младшего дошкольного возраста особенно заметен разрыв между знанием, как себя вести, и поведением.
Это объясняется тем, что у дошкольника еще очень беден жизненный опыт и невелик запас знаний. Отсюда — невозможность критически мыслить и оценивать собственное поведение и поступки.
Маленьким детям в возрасте до трех лет часто бывают непонятны требования взрослых. В этом возрасте понятие о хорошем и дурном для ребенка абстрактны. Поэтому даже простое требование нужно довести до сознания малыша так, чтобы ему было ясно, что от него хотят. Всегда нужно учитывать, что сознание маленького ребенка развито слабо и он только начинает понимать, чего добиваются от него взрослые. Этим же объясняется и то, что нотации и нравоучения не доходят до ребенка. Он может повторить нравоучение, однако сам в своем поведении им не руководствуется. Это вызывает недоумение у взрослых: «Все понимает, а делает по-своему! »
А. С. Макаренко указывал на то, что между пониманием ребенка, как нужно поступить, и привычным поведением «есть какая-то маленькая канавка, и нужно эту канавку заполнить опытом»3.
Надо принимать во внимание особенности развития детей. «Для ребенка, — говорил К. Д. Ушинский, — не существует невозможного, потому что он не знает, что возможно и что нет»4. Когда говорят «подожди до завтра» или «пойдем в гости на следующей неделе», малыш не всегда может понять, почему нельзя выполнить обещанное немедленно, а только «завтра» и на «следующей неделе»? Это нередко становится причиной отклонений в поведении ребенка.
— Эти конфеты съешь, — говорит мама трех летней малышке, — а эти оставь на завтра.
На следующий день обнаруживается, что «завтрашний запас» уже съеден девочкой.
— Как же так? — негодует мама. — Ведь мы же договорились оставить сладости на завтра!
— А я их съела еще завтра... — отвечает девочка, совершенно убежденная в своей правоте.
Иногда даже самое обычное на первый взгляд требование нужно довести до сознания ребенка так, чтобы ему было все ясно. Малыши подчас не понимают указаний взрослого и ведут себя неправильно, думая, что они поступают как надо.
...У пятилетнего Васи новый костюм с «морскими» пуговицами, вызывающими зависть ребят в детском саду. Вскоре одной пуговицы на пиджаке не стало: Вася подарил ее Алику, своему лучшему другу. А к вечеру воспитательница заметила, что Вася ходит нараспашку.
— Почему у тебя пиджак не застегнут? — обратилась к нему воспитательница. — Так у тебя оказывается все пуговицы потеряны?! — удивилась она.
— Да нет, не потеряны: я подарил их ребятам, — объясняет ей Вася.
— Разве можно так? Мама будет недовольна тобою...
— Нет, нет, мама будет довольна, — убежденно говорит мальчик. — Она всегда говорит: «Жадным быть некрасиво».
Конкретность мышления, неумение критически осмыслить ситуацию не дают возможности ребенку дошкольного возраста правильно оценить свои действия. Если взрослые не станут это принимать во внимание, то может так случиться, что дети будут наказаны за то, что требует доходчивого разъяснения, а не наказания.
Нельзя забывать о детской непосредственности, которая иногда выглядит забавной, а иногда заставляет краснеть родителей перед посторонними людьми. В первом случае взрослые умиляются, в последнем — негодуют на малыша, призывают его к ответу, а то и наказывают.
...К Маринкиным родителям пришли знакомые. Они принесли торт, который вместе с другими угощениями подали к чаю.
Когда гости стали расходиться, Маринкина мама напомнила дочери, чтобы она поблагодарила их за принесенный вкусный торт. Девочка удивленно вскинула брови:
— За что же говорить спасибо? Называется торт подарили! А сами его и съели!..
Стоит ли возмущаться в подобных случаях «невоспитанностью» четырехлетнего ребенка? Правильно ли расценивать его поведение как дерзкий поступок? В таких случаях малыш менее всего заслуживает наказания. Надо терпеливо разъяснить малышу его заблуждение.
Иногда взрослые склонны детские шалости приравнивать к серьезным проступкам. А как отличить шалости от проступка? Прежде всего попытайтесь поставить себя на место ребенка и выяснить, было ли действие ребенка злостным. В истинном проступке есть всегда элемент преднамеренности, стремление сделать что-либо наперекор другим, причинить вред, принести ущерб. Ребенок дошкольного возраста редко совершает преднамеренные проступки. Однако и это бывает. Например, семилетняя Рита отставляет стул в сторону, в то время как ее соседка Майя встает из-за стола, чтобы взять цветные карандаши. Майя не замечает, что стула нет, и падает на пол. Рита оправдывается:
— Так ей и надо: пусть не хвалится своим рисунком!
В поступке Риты явная преднамеренность причинить зло Майе. В данном случае чувство зависти побудило девочку к дурному поступку.
В детских шалостях нет злого умысла. Шаловливыми обычно бывают дети наиболее подвижные, стремящиеся как-то излить избыток своей энергии.
Если проступок требует наказания, то к шалостям следует подходить иначе. Как уже говорилось, от шалостей детей отвлекают интересные посильные для них дела.
Следует также заметить, что многие из проступков, за которые дети нередко наказываются, объясняются и физиологическими особенностями дошкольного возраста.
— Опять мокрые штанишки?! — негодует мама на полуторагодовалого кроху. — Вот не будешь проситься, получишь а-та-та!
Возмущаться поведением малыша в таких случаях не следует. Часто дети, заигравшись, забывают проситься. Если здоровый ребенок, не страдающий каким-либо урологическим заболеванием, продолжает и после полутора лет «забывать» проситься, нужно мягко, но твердо требовать, чтобы он был внимателен. Крики и угрозы взрослого только лишь заострят внимание ребенка на дурной привычке и могут закрепить ее. Менее всего здесь уместен гнев взрослых. Терпение и выдержка, умение вовремя напомнить малышу о его естественной надобности помогут искоренить дурную привычку.
Не следует наказывать и бранить детей за ночное недержание мочи. Боясь «провиниться» ночью, ребенок с вечера плохо засыпает, сон становится тревожным, может появиться бессонница. Часто сами взрослые виноваты в том, что у ребенка возникло это нежелательное явление: в раннем детстве младенца оставляли лежать мокрым в постели, не высаживали его ночью и, таким образом, не сформировали привычку к чистоте.
Иногда дети становятся капризными после болезни, чаще чем обычно плачут. Это объясняется тем, что, привыкнув за время болезни к особому вниманию и ласке близких, ребенок продолжает требовать к себе такого же внимания. Частично такие капризы объясняются также и тем, что ребенок ослаблен болезнью и свое недомогание он не умеет выразить в словах. В таких случаях взрослым необходимо постепенно изменять свое отношение к ребенку. Чрезмерная строгость и резкое изменение привычных для ребенка отношений лишь усилят капризы.
Бывают и другие болезненные проявления у детей, например такие (подергивания плечом, подергивания лица и пр.), на которых нередко родители заостряют внимание детей.
— Опять жмуришь глаза! Сколько раз говорила — оставь эту дурную привычку!.. Вот сведу к врачу, пусть уколы делает, — угрожает возмущенная мать пятилетнему сыну. Таким способом она рассчитывает пресечь дурную привычку ребенка.
Действительно, здесь необходима консультация с врачом. И не только в данном случае уместно посещение врача, но и по поводу послеболезненных капризов, ночного энуреза (недержания мочи) и других подобных отклонений, могущих быть сигналом болезненного состояния ребенка. Все аналогичные этим «дурные привычки» должны быть предметом разговора с врачом. Вовремя замеченные, они бесследно проходят у детей, если правильный подход к детям сочетается с соответствующим лечением. Подробно останавливаться здесь на них мы не будем, так как в книге речь идет о вполне здоровых детях.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ НЕДОПУСТИМЫ!
Советская педагогика — самая гуманная наука о воспитании человека — категорически отрицает применение физических наказаний как метод воздействия на ребенка.
Физические меры воздействия исключают одно из принципиальных положений советской педагогики — уважение в ребенке человеческого достоинства. Действительно, можно ли говорить об уважении личности ребенка и одновременно прибегать к физическим мерам воздействия?
Взгляд на воспитание, где наказания, тем более физические, являются чуть ли не главным методом воздействия на ребенка, — пережиток прошлого.
В прошлом физические наказания действительно являлись основным методом воспитания. Безысходная нужда, низкая культура, безграмотность были тому причиной. Родителям, поглощенным заботой о добывании насущного куска хлеба, некогда было думать о воспитании детей.
Родители сегодняшней детворы родились и выросли при советской власти, большинство из них имеет среднее и высшее образование, это люди передовых взглядов. Почему же они берут за образец воспитание по старинке, ссылаясь на опыт людей неграмотных, живших в горькой нужде?
Советская педагогика утверждает, что правильное воспитание не совместимо с физическими наказаниями, калечащими психику ребенка.
К сожалению, есть еще такие семьи, где физические наказания считают действенной мерой: «Отшлепаешь, а то лишь пригрозишь ремешком — он и слушается».
Такие родители забывают, что послушание «из-под палки» никогда не бывает выражением внутренней дисциплины ребенка. Это лишь внешняя покорность, вызванная страхом перед наказанием, и существует она до тех пор, пока ребенок этот страх испытывает. В основе такого послушания не лежат моральные мотивы, оно не опирается на сознание ребенка. В каких только уродливых формах не выражается подобное «послушание». Вот пример:
...Деньги, приготовленные для уплаты за квартиру, пропали. Такого в доме никогда не случалось. Да и кому взять? В семье двое взрослых и семилетняя девочка Валя. Взволнованная случившимся, Вера Александровна начинает вспоминать события минувшего утра.
...Муж ушел раньше обычного, так как предполагалось, что он уедет в дальний рейс в один из городов области. Вера Александровна по пути на работу намеревалась уплатить за квартиру, но, заметив, что времени в обрез, выложила из сумки расчетную книжку и деньги на стол, решив это сделать завтра... Неужели взяла Валя? Она как раз вертелась около стола. Может быть, не нарочно, а так, поиграть? И тут вдруг вспомнилось, как однажды Валя взяла из коробочки для рукоделий цветные нитки, а когда Вера Александровна хватилась их, дочь долго не признавалась, что спрятала нитки в своих игрушках. Неужели повторилось? Откуда такая черта у Вали? Ничего подобного не случалось со старшей дочерью.
...Как ни старалась Вера Александровна добиться признания от Вали, та отрицала свою вину. Вконец расстроенная и рассерженная мать пригрозила дочери:
— Лучше признавайся, куда деньги дела, а то выпорю! Вот он ремень... Стыд, позор! Такое сделать не побоялась, а признаться боишься?!
Упоминание о ремне сделало свое дело.
— Только не бей, все расскажу! — закричала девочка.
И рассказала... Куда деньги дела? Истратила на пирожные, мороженое и на конфеты («Покупала самые вкусные, в красивеньких таких бумажках). Когда успела купить? Тогда, когда мама довела Валю до калитки детского сада, девочка не пошла в сад, а пошла в магазин. Опоздала ли в детский сад? Да, опоздала. «Но Мария Васильевна не сердилась — я ее конфетами угостила. И всех ребят тоже...»
— Неужели Мария Васильевна не удивилась и не спросила, откуда у тебя столько конфет?
— А я сказала, что у меня день рождения...
Потрясенная Валиным проступком, мама решила завтра же пойти в детский сад и поговорить с воспитательницей. А пока сдержать слово и не наказывать дочь: «Вернется муж, будем решать вместе, как быть».
Вечером неожиданно вернулся Валин отец: командировку отменили.
— Удивлены, что я дома? Разве не догадались, что я не уехал: денег на столе нет — значит, уплачены за квартиру. А если бы заглянула в расчетную книжку, то сразу поняла бы.
Оказывается, узнав об отмене поездки, Валин отец вернулся домой, а так как до работы у него еще оставалось свободное время, он уплатил за квартиру... Ну, а как же Валино признание? Страх перед наказанием сыграл свою неблаговидную роль. В ход была пущена детская фантазия как средство избавления от наказания.
Случай, к сожалению, взят из жизни. Те родители, которые прибегают к физическим наказаниям своих детей, наверное, могут вспомнить случаи, похожие на описанный. Ребенок с легкостью прикрывается ложью, иногда признается в том, в чем не виноват, лишь бы не быть избитым.
Каких только пороков не «воспитал» ремень — притворство, озлобленность, забитость, трусость, лицемерие, подхалимство, лживость...
Возьмем, к примеру, такой отвратительный порок, как лживость. Откуда он «приходит» к ребенку? Причин много, но главная из них — страх перед телесным наказанием. Чтобы отвести от себя наказание, ребенок лепечет «это не я», «кто — не знаю», а то и свалит вину на невиновного. Страх перед телесным наказанием не дает возможности ребенку честно, глядя открыто в глаза маме или папе, раскаяться в своем поступке:
— Прости, пожалуйста, мама. Это я порвал свою куртку: не послушал тебя — влез на дерево. Больше так делать не буду.
Схитрить, свалить вину на другого — лишь бы уклониться от наказания! Если это ребенку удается, он и в другой раз прибегает к этому способу защиты. А затем ложь становится для ребенка привычной.
Привыкнув лгать папе, маме, старшим в семье, ребенок начинает лгать всем и всюду, когда ему это почему-либо выгодно.
А лицемерие? Этот отвратительный порок также воспитывается с помощью ремешка.
...Вова при папе ведет себя хорошо, старается всячески выразить ему внимание, послушен, ласков. Без него мальчик меняется: маму и бабушку не слушается, груб и дерзок с ними, на замечания не обращает ни малейшего внимания.
Почему мальчик с разными людьми ведет себя по-разному? Оказывается, он побаивается папиной «тяжелой руки». Отношения к отцу не искренни, за глаза сын отзывается об отце без уважения:
— Лучше не связываться с папкой, а то всыплет!
Родители, которые прибегают к физическим мерам воздействия, впоследствии убеждаются, что такой «метод» укрощения детской непокорности не только не помогает воспитывать, но и разрушает вообще какое-либо взаимопонимание между взрослым и ребенком, вызывает у него чувство злобы и отчужденность.
...На столе стоит ваза с цветами. Она привлекает к себе внимание трехлетнего ребенка. Он сейчас в том «исследовательском» возрасте, когда все вызывает желание рассмотреть, потрогать, понюхать, а то и попробовать «на зуб». Вот и сейчас малыш устремляется к букету цветов: вскарабкался на стул и уже протянул руку к желанному предмету, но дедушка, наблюдавший за внуком, молча переставляет вазу с цветами на письменный стол. Однако у ребенка не пропадает стремление заполучить желаемое. Поединок продолжается: мальчик подставляет стул, влезает на него, но дедушка шлепает его по протянутой руке. Наверное, не очень больно: малыш молча, как будто ничего не случилось, продолжает тянуться к цветам. И снова — шлепок.
Мальчик зло посмотрел на деда и вдруг громко, с обидой расплакался:
— Вот вырасту большой, буду сильный. Тогда я тебя тоже так побью! Побью!
Ребенок кулачком замахивается на деда, но не ударяет: силы не равные. Сколько было в его словах и жесте озлобленности, бессилия, желания отомстить!
Что происходит с ребенком? Прежде всего у него возникает к близкому человеку чувство злобы, он становится нервным, капризным, постепенно утрачивается уважение к взрослому, накапливается чувство боязни и ненависти. По мере роста ребенка он будет все больше и больше отгораживаться духовно от своих близких. А без духовного контакта разве может состояться воспитание? Разве сможет взрослый, насилуя сознание ребенка, одновременно заставить поверить в справедливость своих требований? Посмотрите на заплаканного малыша после очередной экзекуции: он сжался в комок, он оскорблен, унижен, раздавлен, озлоблен.
А. С. Макаренко говорил: «Если вы бьете вашего ребенка, для него это во всяком случае трагедия, или трагедия боли и обиды, или трагедия безразличия и жестокого детского терпения.
Но трагедия эта — для ребенка. А вы сами — взрослый человек, личность и гражданин, существо с мозгами и мускулами, вы, наносящий удары по нежному слабому растущему телу ребенка, что вы такое? Прежде всего вы невыносимо комичны, и, если бы не жаль было вашего ребенка, можно до слез хохотать, наблюдая ваше педагогическое варварство. В самом лучшем случае вы походите на обезьяну, воспитывающую своих детенышей. Вы думаете, что это нужно для дисциплины?
У таких родителей никогда не бывает дисциплины. Дети просто боятся родителей и стараются жить подальше от их авторитета и от их власти»5.
— Не враг же я своему ребенку! — говорят обычно взрослые в свое оправдание. — Не зря же шлепаешь, а за дело: ведь хорошему учишь. Вырастет, еще благодарить будет...
Да, конечно, шлепки и тумаки достаются ребенку из благих родительских побуждений: «хорошему учат», «воспитывают». А главное — легкий и простой «метод», тут же результат виден: ребенок притихает, слушается, подчиняется родительским требованиям.
Велика ли цена детскому послушанию, достигнутому подобным способом? Судите сами: ребенок под страхом наказания, возможно, будет поступать правильно, но без раздумий, почему надо поступать именно так, а не иначе, не затрачивая на это своих духовных сил.
Как глубоко заблуждаются родители, считающие, что при помощи ремешка можно поддержать свой авторитет («Должен ведь ребенок бояться отца и мать, а то и уважать не станет!»). Ремнем не создашь авторитет и уважение. Родители, прибегающие к телесным наказаниям своих детей, должны знать, что если их слушают, то вовсе не из уважения к ним, а потому, что боятся. Как уже говорилось, дети, подвергающиеся физическим методам воздействия, привыкают поступать не «за совесть, а за страх», и там, где им не угрожает ремень, они ведут себя как им заблагорассудится.
...При отце, от которого шестилетнему Вите часто достается, мальчик ведет себя так, как нужно. А когда папы нет дома, Витю не узнать: маму не слушает, дерется с младшей сестренкой, со двора к обеду не дозовешься. Посмотрите, как он ведет себя во дворе, каковы его манеры: он груб со сверстниками, мучает животных, рвет цветы, ломает деревья, На замечания посторонних отвечает дерзостью. Окружающие говорят о нем: «невоспитанный ребенок», стараются держать подальше от него своих детей.
Что же происходит с Витей? Под страхом ремешка при отце он «ходит по струнке», но зато стоит ему быть предоставленным самому себе, как он начинает наверстывать упущенное. Но так как мальчик не привык относиться к своим поступкам осознанно, так как его совесть «шлифуется» самым грубым способом — с помощью ремня, то и поведение его не подчиняется самоконтролю, не оценивается с точки зрения нравственности.
Правда, пока Витя еще побаивается ремня. Но ведь не всю жизнь регулятором его поведения будет ремень!
Уже сейчас Витины родители на замечания посторонних беспомощно разводят руками:
— Мы ведь строги с ним. Разве ж мы воспитываем его так? Разве хотим, чтоб он был таким?
Оказывается, желать и хотеть — это не все. Всему доброму надо учить. И не ремнем, а собственным примером, разумными требованиями, всей системой воздействий на сознание, чувства ребенка. Учить вдумчиво, терпеливо.
Если взрослый прибегает к физическим наказаниям при воспитании ребенка, это говорит о неумении взрослого воздействовать на него словом, убеждением. В самом деле, зачем прибегать к физическим мерам воздействия, если родительское слово может убедить малыша поступать правильно? Какую непоправимую ошибку допускают иные родители, когда с первых же шагов малыша начинают руководить его поведением с помощью шлепков и ремня, расписываясь тем самым в своей педагогической несостоятельности!
Некоторые родители считают, что двухлетний малыш еще ничего не понимает («разве разъяснения дойдут до него?»), а шлепок заставит понять, что его действия не одобряют. А об унижении личности ребенка такого возраста стоит ли говорить?
— Подумаешь, шлепнули его разок! Ничего ему не сделается. Ведь не больно.
Шлепки применяются родителями по отношению к ребенку в любом, даже малозначительном случае.
...Малыш лет двух вместе с мамой гуляет на бульваре. Мама присела на скамейку, а сын возит по дорожке привязанный за веревочку игрушечный грузовик. Мама не спускает влюбленных глаз с сына. И впрямь карапуз хорош: румяный, чистенький.
Игра мальчика со стороны кажется незамысловатой, но для него она не так проста: надо, чтобы грузовик то останавливался, то шел быстрее, то поворачивал в сторону. И вот на очередном повороте мальчик теряет равновесие, падает, распластавшись на животе. Малыш поднимает голову, на лице выражение растерянности: заплакать или нет? Ведь все-таки упал...
Еще мгновение — и мама рядом с сыном, ставит его на ноги. Кажется, теперь все в порядке. Но что это? Мама отряхивает сына, раз-другой дает ему шлепка. Теперь уже малыш громко плачет.
Кому не доводилось наблюдать подобную сценку? Ребенок падает, ушибается и в дополнение получает изрядную порцию шлепков от родителей. Может быть, маме жаль испачканного пылью светлого костюмчика или разорванного на колене чулка? Или шлепок означает предостережение на будущее: будь осторожнее? Или это своеобразное выражение сочувствия ребенку? Наверное, это не ясно ни самой маме, ни ребенку, ни окружающим.
Такие необоснованные наказания вызывают у малышей недоумение, слезы, а у более старших детей обиду и осуждение действий взрослых.
В битье, дерганье ребенка выражается наша собственная невоспитанность, неумение владеть собой. Как же мы можем требовать от наших детей умения руководить своими поступками, если сами теряем контроль над собой?
Разве нам, взрослым, не знакомо чувство вины перед ребенком, когда, одумавшись, мы понимаем, что незаслуженно довели его до слез? Угрызения совести заставляют нас заглаживать свою вину, задабривать малыша поцелуями, сластями, подарками. Вырабатывается своеобразная «система» воспитания: сначала ударить ребенка, потом утешить его.
Малыш запачкал руки, играя в песок, — получает шлепок; замочил рукава и воротник, умывая лицо, — опять шлепок; нечаянно оторвал пуговицу от платья — снова шлепок. Ребенок, привыкший к подобным воздействиям, постепенно перестает реагировать и на шлепки, и на замечания взрослых. С возрастом увеличивается детская «сопротивляемость» к шлепкам и указаниям старших. Формируется некая «закалка» против наказаний: его наказали, а он стойко терпит неудобства и даже подчас хвалится сверстникам: «Ну и пусть наказали, зато я делаю, что хочу!» Не приходится и говорить, что у такого ребенка отсутствует чувствительность к мягким мерам воздействия.
— Ишь, бессовестный! Ему все нипочем, как с гуся вода, — говорят родители, не подозревая, что сами сделали его «бессовестным».
В таких случаях родители вынуждены постоянно сталкиваться с сопротивлением ребенка, против которого приходится применять все более и более суровые наказания, обостряющие отношения между взрослыми и маленькими. Связующая нить взаимопонимания между взрослым и ребенком обрывается, и родители оказываются в затруднительном положении. Часто можно слышать такие жалобы: «И строги с ним, и учим, и наказываем его, а ему хоть бы что!»
У ребенка появляется недоверие к близким, замкнутость, отчужденность, вместо чувства симпатии и доверия он испытывает неприязнь и страх. «Розга, чрезмерная строгость и телесные наказания никогда не могут желательным образом затронуть сердце и совесть ребенка, — говорил Феликс Эдмундович Дзержинский, — ибо для детских умов они всегда останутся насилием со стороны более сильного и прививают либо упрямство, даже тогда, когда ребенок осознает, что он поступил плохо, либо убийственную трусость и фальшь..!»6.
Глубоко ошибочно мнение некоторых родителей, которые полагают, что ремнем можно «сломить», «перебороть» детское непослушание. Телесные наказания причиняют не только физическую боль, но и ранят душу ребенка, унижают его человеческое достоинство, память о них нередко оставляет след на всю жизнь. «Мы часто совершенно недооцениваем, — писала Н. К. Крупская, — какое сильное впечатление часто на всю жизнь оставляет какое-нибудь чувство, пережитое в возрасте пяти — семи лет»7.
Нет таких причин, которые бы оправдали физические меры воздействия. Утверждение «нас в детстве били — мы людьми стали» не имеет под собой основательной почвы: это не правило, а исключение. Именно воспитание, исключающее физические меры воздействий, воспитание, рассчитанное на высокую сознательность, формирует такие человеческие качества, присущие советским людям, как гуманность, чувство собственного достоинства, духовную деликатность, отзывчивость, доброту, общительность, непримиримость ко всему дурному. Все эти качества воспитываются не ремнем, а могучей силой примера личности воспитателя, его разумной любовью и непреклонной требовательностью к ребенку.
Великий революционер Феликс Эдмундович Дзержинский завещал нам: «Не бейте своих ребят. Пусть вас удержит от этого ваша любовь к ним, и помните, что хотя с розгой меньше забот при воспитании детей, когда они еще маленькие и беззащитные, но когда они подрастут, вы не дождетесь от них радости, любви, так как телесными наказаниями и чрезмерной строгостью вы искалечите их души»8.
ПООЩРЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА
Когда ребенок чувствует, что к нему относятся с доверием, уважают в нем человека, не только делают ему указания, замечания, но и отмечают его хорошие стороны, он старается оправдать, поддержать это мнение.
Если мама вслух при всех скажет о дочери: «Молодец, Рита. Правильно сделала, не стала настаивать, чтобы отпустила гулять с Верой. Сама поняла, что уже поздно», Рита и в следующий раз, прежде чем настаивать на своем желании, в меру детских возможностей «взвесит», стоит ли это делать.
Нужно поощрять ребенка, когда он осознанно относится к своим поступкам.
— Я нечаянно цветок опрокинул в вестибюле, — говорит воспитательнице Игорь. — Тетя Маруся приготовила его, чтобы пересадить в больший горшок. А я задел его...
Мальчик явно расстроен, рассказывает о случившемся с волнением. Воспитательница говорит:
— Хорошо, Игорь, сделал, что сразу же рассказал об этом. Сейчас мы вместе с тобой и двумя девочками поможем тете Марусе привести все в порядок.
Воспитательница привлекла внимание детей к поступку Игоря, подчеркнув, что он сделал правильно, признавшись в своей вине: «Всегда надо поступать так, как Игорь».
Этот прием «тренирует» ребенка в хороших поступках. Полезно поощрять хорошие поступки детей перед обществом сверстников. Этим самым достигается две цели: первая — придать общественную значимость хорошему поступку, вторая — дать пример для подражания остальным детям. Ребенок, которого поощряют в присутствии других детей, чувствует себя обязанным и в дальнейшем поступать правильно. Заслуженная оценка успехов ребенка вызывает в нем стремление быть лучше.
Однако мы часто грешим тем, что фиксируем главным образом отрицательные поступки детей, стараемся руководить детским поведением при помощи замечаний, порицаний, нотаций, наказаний... К сожалению, иные родители забывают, что существует такой ценный прием, как поощрение, похвала. Порицание и похвала — два противоположных метода воздействия на детей: одно вызывает огорчение, другое — радостные эмоции. Однако и порицание, и похвала, применяемые к ребенку умело и продуманно, являются формой оценки детских поступков, а значит, и регулятором их поведения. Применяемые параллельно, эти приемы, как бы оттеняют правильность действия малыша.
Поощрения вызывают у ребенка приятные чувства, побуждают его к поступкам, заслуживающим одобрения родителей. Похвала — значительный стимул к хорошему поведению: в сознании ребенка правильный поступок ассоциируется с поощрением.
Например, если мама, папа или бабушка похвалили трехлетнюю девочку за то, что она самостоятельно убрала свои игрушки на место, без напоминания помыла руки перед едой, то это вызывает у нее желание поступать так же и в следующий раз. Если родители не забывают отмечать вслух при ребенке его примерное поведение — уступил старшим место, помог маме нести покупки, заступился за младшего, — а не только его недостатки, то ребенок постепенно начинает понимать, что хорошо, а что дурно. Вот почему важно, чтобы ребенок получал не только замечания, порицания за свои плохие поступки, но и похвалу за хорошее поведение.
Однако надо всегда помнить, что похвала, как и порицание, может стать привычкой для ребенка, если применяется непродуманно, слишком часто. Поэтому к поощрениям надо прибегать не менее осмотрительно, чем к наказаниям. Неправильно, если родители захваливают своего ребенка. Например, часто хвалят ребенка в его присутствии: и рисует он хорошо, лучше чем другие, и песен знает много, и стихи читает выразительно, и ростом-то выше своих сверстников.
Если ребенка хвалят за каждый пустяк, поощрение теряет свой смысл и оказывает вместо полезного отрицательное действие: ребенок начинает многое делать напоказ, чувствует себя в центре внимания, хотя в сущности делает то, что обязан делать. Захваливание приводит к самолюбованию («Вот как я умею»), лишает ребенка скромности («У меня лучше»).
...Лена привыкла, чтобы ее всегда хвалили. Нарисует рисунок и бежит к соседям показывать. У Лены новое платье или туфли — спешит во двор показать своим подружкам. Уберет после игры свои вещи и ходит за мамой:
— Ну, посмотри — как? Правда красиво убрала? Я молодец?
— Молодец! Ты же ведь у меня самая, самая лучшая.
И так изо дня в день. Леночка растет, растут и ее притязания быть особенной: «Мое платье самое красивое», «Бегаю быстрее всех», «Купи игрушку, чтобы ни у кого не было такой, как у меня». Девочке шестой год, а она уже сейчас не терпит родительских замечаний даже в мягкой форме. Чуть что — сразу в слезы, «надуется», не разговаривает с мамой, папой. Особенно трудно пришлось, когда девочка пошла в детский сад. Трудно усидеть на занятиях и «не выскакивать» первой с ответом, ожидая, когда тебя вызовет воспитательница; обидно Леночке слышать, что у нее рисунок такой же, как у Алика, ничуть не лучше (а она привыкла, чтобы «лучше»); что она поступила так, как и все дети поступают; что сегодня не она первая идет в паре, а кто-то другой.
Захваленная дома, Лена привыкла быть в центре внимания, а здесь в детском саду ее не хвалят за то, что дома вызывало восторг у окружающих. На этой почве немало возникло срывов в поведении девочки: «Не хочу заниматься», «Не буду в это играть», «Хочу быть снегурочкой на празднике, а снежинкой не буду выступать», насупится, отвернется к стенке, «не слышит» воспитательницы.
Немало пройдет времени, прежде чем Лена поймет, что она не одна на свете, что она «самая, самая лучшая» для мамы, а в детском саду она должна делить внимание воспитателя наравне с другими.
Детей, отличающихся некоторой развязностью, стремящихся занимать ведущие роли, хвалить надо реже и сдержаннее, чем других: надо, чтобы ребенок чувствовал, что он такой же, как все, один из многих, а не «особенный».
Дети должны знать цену похвале.
...В семье Веры похвала — высшая награда за хороший поступок.
Вере седьмой год. Летом на даче девочка встает вместе со взрослыми рано, помогает маме приготовить завтрак, накрывает на стол.
У соседей по даче это вызывало восторг и удивление. Как-то в присутствии Веры соседка сказала ее маме:
— Какая у вас замечательная маленькая помощница! А мама не похвалит ее никогда.
— Не принято у нас в семье похвалы раздавать: семья у нас большая, у каждого свои обязанности. Муж и я работаем, старший сын продукты покупает, средняя дочь занимается уборкой, а младшая, Вера, помогает на стол накрывать, посуду мыть. Неужели хвалить каждого за то, что он выполняет свои обязанности так, как надо?
Если в семье несколько детей, то всегда следует учитывать, что поощрять надо, не выделяя кого-либо, справедливо, по заслугам. В противном случае поощрение теряет свою воспитательную ценность и может вызвать неприязненное чувство к награжденному ребенку.
Какие же формы поощрения можно использовать в семье? Если у родителей установлены близкие сердечные отношения с ребенком, то для него будет наградой одобрение его поступка теплым словом, улыбкой и т. п.
Порадуйтесь вместе с малышом, если он позаботился о ком-то из близких:
— Как приятно, что сын догадался подать папе домашние туфли. Правильно сделал: папа пришел с работы усталый.
Выразите удовлетворение, что ребенок помог младшему братишке одеться, посмотрел за ним, пока мама ходила в магазин, сказав ему:
— Ты уже совсем большой. Настоящий помощник маме.
То, что взрослые заметили хороший поступок, вызовет у ребенка стремление и в следующий раз сделать так же, желание поступать хорошо перейдет в привычку, а впоследствии — в потребность.
Надо различать, когда стоит лишь словом одобрить поведение ребенка, а когда отметить особо, например, рассказать о нем всем членам семьи.
— Аленушка порадовала меня своим поведением. Пока ожидала меня, когда я за ней приду в детский сад, а я немного задержалась на работе, она не скучала, не слонялась без дела, а помогала Анне Васильевне убирать групповую комнату.
Иногда можно за примерное поведение пообещать ребенку (и уж, конечно, обещание выполнить) взять его с собой на прогулку за город, в парк, на детский сеанс в кино и т. п. В редких случаях можно поощрить ребенка подарком. Однако этот способ воздействия можно использовать лишь в исключительных случаях: если ребенка часто поощряют подарками, то может случиться, что он станет поступать хорошо из корыстных побуждений. Поощрения в виде подарка — игрушки, книжки, лакомства — вполне возможны, но не должны превращаться в «подкуп»: ты нам — послушание, а мы тебе — подарок. Хорошо, когда, преподнося ребенку подарок в день его рождения или к празднику, родители (не навязчиво, без лишнего морализирования!) не забывают сказать:
— Вова вполне заслужил подарок — не огорчал папу, маму и бабушку своим поведением.
Если ребенок старшего дошкольного возраста, как правило, ведет себя хорошо, это вообще можно не отмечать, лишь изредка вслух следует высказывать утверждение, что хорошее поведение вполне естественно для него, что иначе и быть не может.
Один из испытанных приемов — косвенное поощрение, когда детям указывают на чей-то хороший пример, побуждая поступать так же. Здесь неоспорима роль тех близких, любимых людей, на которых он стремится быть похожим, — родителей, старших братьев и сестер, товарищей.
Так, например, мама, заметив, что ее шестилетний сын в троллейбусе громко разговаривает, усиленно жестикулируя, ставит в пример ему брата:
— Говори тише, руками не размахивай. Послушай, как Женя говорит — спокойно, тихо.
Бывает, что родители слишком часто ставят в пример своему ребенку какого-то знакомого мальчика или девочку («Ира аккуратная, не то, что ты!», «Ира послушная, а тебя с улицы не дозовешься!», «Ира так не поступила бы, а от тебя всего можно ожидать!» и т. п.), это может вызвать результат, обратный ожидаемому.
Лучше не ссылаться так часто на пример «хороших, послушных» детей и не подчеркивать, что ваш ребенок плохой, неаккуратный, непослушный и т. п. Если ребенок это часто слышит от родителей, ему не трудно внушить, что он неисправим. Ребенок должен всегда чувствовать, что родители считают его хорошим, верят в него.
Надо поощрять ребенка, когда он стремится заслужить положительное мнение о своем поведении. Если ребенку все равно, как о нем отзываются окружающие — это говорит о промахах в его воспитании.
Как создать у ребенка желание заслужить положительную оценку своего поведения со стороны окружающих людей? Стремление быть хорошим присуще маленькому ребенку, но как поддержать это стремление?
В этой связи, думается, уместно поговорить о формировании у детей одного из нравственных чувств — чувства собственного достоинства, которое оказывает благотворное влияние на поведение. Этому вопросу еще уделяется недостаточно внимания в практике воспитания. А между тем невозможно себе представить человека коммунистического общества, лишенного этого нравственного чувства. Кому, как не советским людям, достигшим вершин в науке, технике, труде, искусстве, людям, строящим коммунизм, должно быть присуще чувство собственного достоинства! И воспитание этого чувства надо начинать как можно раньше.
Чувство собственного достоинства — многогранное прекрасное качество души человека. У взрослого оно в первую очередь проявляется в осознании своих поступков, в уважении к окружающим людям и к самому себе, оно также проявляется в правильной оценке положительных и отрицательных явлений жизни, в умении осудить то, что унижает человека в его собственном мнении и мнении других людей. Человек, обладающий этим чувством, может правильно оценить свое положение среди людей.
Чувство собственного достоинства заставляет человека удерживаться от дурных побуждений. В самом деле, нельзя себе представить, чтобы человек, обладающий этим нравственным чувством, позволил себе поступок, оскорбляющий других людей, вел бы себя нечестно и т. д.
Чувство собственного достоинства предполагает уважение со стороны окружающих, и человек, имеющий это моральное чувство, не допустит, чтобы при нем сквернословили, говорили неправду о других, не допустит подхалимства по отношению к себе и не станет сам подхалимничать. Такой человек не побоится вслух высказать свое мнение и сам с достоинством встретит критику других.
О человеке, преисполненном собственного достоинства, говорят — «он знает себе цену». Действительно, такой человек осознает свои положительные качества, не кичится своими успехами и достижениями.
Это у взрослого. У дошкольника же чувство собственного достоинства проявляется своеобразно, по-детски.
У каждого возраста свои возможности: если не всякому взрослому удается с достоинством выйти из спора, то не каждый ребенок может с достоинством побороть желание заплакать, отнять игрушку, уступить без напоминания взрослого.
— Петя не будет плакать, расставаясь с нами: разве мужчины плачут? — говорит папа пятилетнему сыну, отправляя его на дачу с детским садом. И хотя мальчику очень хочется заплакать, глядя из окна автобуса на улыбающуюся маму, он все же удерживает слезы: «Разве мужчины плачут?» Петя даже говорит своему соседу:
— Ты что ли девочка, что плачешь? Видишь, я же не плачу.
Надо, чтобы взрослые использовали эти элементарные проявления чувства собственного достоинства у ребенка в воспитательных целях. Практика показывает, что многого можно добиться в воспитании положительного поведения у детей, если умело опираться на проявляющееся у ребенка чувство собственного достоинства. Чем раньше мы будем формировать это чувство, тем больше у нас будет возможностей удержать ребенка от неблаговидных поступков, опираясь на его самосознание.
Что значит формировать в ребенке чувство собственного достоинства? Это прежде всего поддержать в нем стремление быть хорошим, с уважением относиться к личности ребенка, добиваясь осознанности его поведения.
Детям робким, неуверенным в своих возможностях, с трудом вливающимся в коллектив сверстников, надо внушать уверенность в своих силах: подбадривать их, чаще давать поручения, хвалить за удачно выполненное задание, ставить в пример другим — одним словом, всячески вызывать у них ощущение своей полноценности.
Однако нельзя забывать о том, что в формировании у ребенка чувства собственного достоинства очень важна мера. Ударившись в крайность, можно воспитать вместо этого благородного чувства себялюбие, зазнайство, чувство ложного превосходства. Особенно это нужно учитывать в отношениях тех детей, которые в играх всегда стремятся занять ведущие роли, легко справляются с заданием, в семье находятся в центре внимания.
...В троллейбусе девочка лет пяти декламирует стихотворение. Ее голосок звучит громко, на весь салон. Девочка поглядывает по сторонам: какое впечатление производит она на окружающих? Мать кивает головой в такт стихам, подсказывает не запомнившиеся строки и так же, как дочь, ловит взгляды пассажиров. Голосок девочки звучит все громче. Она действительно привлекает внимание окружающих. Но пассажиры реагируют на эту сцену по-разному: кто похваливает, кто смотрит на мать и дочь неодобрительно.
Вот в этом малом возрасте и возникают те черты, которые коробят нас, когда мы видим их у молодежи. В дошкольном возрасте — неуместная «декламация» стихов в троллейбусе, в юношеские годы — громкие разговоры, развязность, желание «блеснуть» остроумием, привлечь внимание окружающих.
Чувство меры, которое так необходимо в воспитании, должно подсказать родителям, знающим своих детей как никто другой, когда нужно ребенка остановить, когда приободрить, похвалить, а когда необходимо строго спросить с него.
ПОЧЕМУ МЫ НАКАЗЫВАЕМ ИХ?
Многие ли родители задумывались над тем, почему они наказывают ребенка?
Большинство объясняет это просто: потому, что он не слушается родительского слова, потому, что его поведение выходит за рамки дозволенного, потому, что он не отличает дурное от хорошего — в общем, виноват ребенок...
Рассуждать так — это значит возлагать на ребенка ответственность за наши собственные ошибки. Разве не повинны мы, взрослые, в том, что не сумели вовремя сформировать те черты и качества характера, которые нам хотелось бы видеть в нем?
К сожалению, случается так, что родители задумываются над вопросами воспитания лишь тогда, когда поведение ребенка начинает резко отклоняться от нормы. Вот здесь-то, спохватившись, они прибегают к наказаниям.
Однако глубоко заблуждаются те родители, которые полагают, что при помощи только одних наказаний можно добиться желаемых результатов в перевоспитании сына или дочери.
Но как же наверстать запущенное? Как добиться исправления ребенка?
Если уж так случилось, что мы допустили ошибки в его воспитании, то не следует считать, что все упущено и воспитание начинать поздно. Воспитывать никогда не поздно, тем более в дошкольном возрасте, хотя, к сожалению, перевоспитывать всегда труднее, чем воспитывать с самого начала. В таких случаях придется пересмотреть всю систему воспитания, чтобы понять, в чем заключались наши ошибки, и перестроить ее.
Нелегко руководить поведением ребенка, если оно выходит за рамки дозволенного и стало для него привычным способом поведения. В таких случаях иногда приходится прибегать к более строгой мере — наказанию детей, как крайней мере воздействия, без которой уже обойтись невозможно. Советская педагогика не отрицает такой меры воздействия, но к наказаниям прибегать нужно как можно реже и только в том случае, когда без наказания обойтись нельзя.
Когда мы говорим о допустимости наказаний, то имеем в виду, что наказания возможны лишь в системе других воспитательных приемов, что они не могут быть ведущими методами воздействия на ребенка. Как уже говорилось, наряду с наказаниями должны применяться другие педагогические меры воздействия: разъяснения, убеждения, поощрения, разумная требовательность взрослых в сочетании с уважением к личности ребенка, положительный пример окружающих взрослых и сверстников.
Наказание — сложный и трудный метод воспитания как для родителей, так и для ребенка, он требует огромного такта, терпения и осторожности от воспитателя.
Прибегая к наказанию, всегда надо учитывать, когда и в какой ситуации, а также в какой связи с другими мерами воздействия оно применяется, что представляет собой ребенок, которого хотят наказать, какое действие окажет наказание на ребенка: поможет ли исправить его поведение, предотвратит ли и в дальнейшем нежелательные поступки, какую реакцию вызовет у ребенка наказание.
Если наказание как мера воздействия помогает ребенку осознать свою вину и не унижает его человеческого достоинства, а, наоборот, поднимает чувство ответственности за свои действия, — в этом случае наказание педагогически оправдано и допустимо как мера воспитания. Наказание тогда обретает воспитательный смысл, когда воздействует на сознание детей. Ф. Э. Дзержинский указывал: «Исправить может только такое средство, которое заставит виновного осознать, что он поступил плохо, что надо... поступать иначе»9. Сущность наказания именно и заключается в том, чтобы вызвать у ребенка недовольство собой за совершенный поступок, осуждение случившегося, переживание чувства вины.
Очень вдумчиво надо подходить к выбору способов наказания. Нельзя забывать, что любое наказание всегда должно являться формой оценки поведения детей. Поэтому, как всякая оценка, наказание оправдывает себя в том случае, если оно справедливо, объективно, применяется с учетом детских особенностей.
Прежде чем наказывать, надо попытаться выяснить, чем был вызван «срыв» в поведении ребенка. Это даст возможность найти наиболее правильный способ воздействия на него. Это очень важно, так как без причин у маленького ребенка никогда не бывает срывов в поведении. И прежде чем предъявить претензии к малышу, надо подумать над тем, что явилось причиной его проступка.
Не спешите применить наказание. Ничего, если ребенок заметит, что вы размышляете над тем, что хотите предпринять. Важно, чтобы эта пауза выглядела не как ваше замешательство, беспомощность перед случившимся, а как раздумье, серьезное отношение к детскому поступку. Сразу, «сгоряча», нельзя принимать решение о форме наказания, так как горячность не дает возможности объективно взвесить случившееся, выяснить причины детского проступка.
Вдумайтесь, что побудило ребенка поступить так, а не иначе. Можно ли обойтись без наказания? Может быть, ребенку достаточно сделать внушение, чтобы он смог искренне почувствовать себя виноватым? А если он совершил впервые неблаговидный поступок, то ограничиться порицанием или предупреждением, что в следующий раз он будет за это наказан (безусловно, что обещание не должно расходиться с делом).
Наказывая ребенка, важно дать ему почувствовать, что вы вынуждены поступить так из-за того, что поступок заслуживает такой меры, что вам неприятно наказывать. Надо показать ребенку свое огорчение поступком. При таком подходе ребенок чувствует себя виноватым, не озлобляется против взрослых.
— За то, что ты ломаешь игрушки в детском саду, мы с мамой решили пока не покупать тебе конструктор, — говорит отец шести летнему сыну.
Никита надулся: не ожидал такого поворота. До сих пор верили его обещаниям. Вот и сейчас, после недолгой паузы, он пытается заверить папу, что «не будет больше так делать».
— Нет, — говорит папа решительно, — ты уже не один раз давал слово и не сдержал его.
— Ну, парочка, — в голосе ласково-просительные нотки.
Мама, присутствующая при разговоре отца с сыном, готова, кажется, пойти на уступки. Однако отец, заметив это, опережает ее:
Мы с мамой так решили. Даем тебе время на исправление две недели. Посмотрим, как себя будешь вести в детском саду...
— Мы уверены, что ты сдержишь свое обещание, — подхватывает мама.
— Конечно, стоит только очень-очень захотеть и ты сдержишь слово. Ведь ты уже большой, а большие всегда выполняют обещание. Ты ведь это знаешь, — заключает папа.
Да, Никита знал, что и папа, и мама всегда непреклонны в своем решении. И теперь ему ничего не оставалось делать, как выдержать «испытание»...
Чувствительной мерой наказания для ребенка может явиться отмена предполагаемого посещения детского спектакля, зоопарка, музея, поездки на речном трамвае и других развлечений. Об этом можно сказать ребенку примерно так:
— За непослушание ты не поедешь в этот выходной день в гости к бабушке. Посмотрим, как будешь себя вести дальше. Надо заслужить, чтобы тебя взяли с собой.
Излишне говорить, что вы должны быть непреклонны: если уж вы решились на эту меру наказания, то не должно быть никаких отступлений. Иначе ребенок будет всегда надеяться на то, что сможет уговорить вас отменить свое решение.
Не взяли в гости к бабушке, отменили поездку на речном трамвае. У ребенка есть время подумать о своем поступке, не раз он возвратится к мысли о том, что приближается долгожданный день, в который он должен был пойти с папой в музей или на выставку, но теперь все это отменяется до следующего воскресенья. Видимо, и впрямь он сильно огорчил папу и маму своим поведением, что его так наказали. Такой способ наказания всегда располагает ребенка к раздумью над своим поступком.
Родители не должны все время напоминать ребенку, что он наказан, иначе это будет выглядеть как злорадство. Гораздо целесообразнее выразить сочувствие ребенку, показав, что папа и мама были вынуждены наказать его за недостойное поведение, лишив удовольствия. Например, в тот день, когда было намечено пойти на выставку, вспомнить, что этот день для сына или дочери прошел неинтересно, а ведь все могло быть иначе...
Случается, что, наказывая ребенка, мы не принимаем во внимание его личных переживаний, не задаемся вопросом, «принял» ребенок наказание как справедливую кару или нет. Наказание, хотя и самая сильная мера воздействия на ребенка, должно носить гуманный характер: наказание — не карательная, а воспитательная мера.
Маленькие дети «принимают» наказания в том случае, если они мотивированы и конкретны. Иначе до малыша не дойдет смысл наказания.
...Четырехлетние Вадик и Тома играют в прятки, они то и дело убегают в дальнюю аллею, где сыро.
Томина мама и мама Вадика уже не раз им делали замечание, но дети, заигравшись, снова нарушают запрет. Тогда мамы решают наказать детей. Каждая из мам действует по-своему, так, как она считает нужным. Мама Вадика усаживает сына на скамейку и строго говорит ему:
— Придется посидеть возле меня. Разве я могу тебе позволить играть, если ты не слушаешь меня, убегаешь далеко, туда, куда я не разрешаю? Сядь и подумай, за что ты наказан. Я знаю, что тебе неприятно. Мне тоже, но что же поделаешь...
Томина мама также усаживает возле себя дочь, но увещевания ее звучат иначе:
— Плохая девочка, упрямая! Тебе говоришь-говоришь сто раз об одном и том же, а ты — свое. Не люблю такую девочку! За то, что ты плохая, — наказываю тебя.
Итак, мы видим, что за одинаковую провинность дети одинаково наказаны. Справедливо наказаны? Да, справедливо. Но это с точки зрения взрослых. А с точки зрения детей? Посмотрим, как каждый из них «принял» наказание. А «приняли» они его по-разному, в зависимости от того, как родители преподнесли им их вину.
Вадик сидит рядом с мамой, потупившись, смотрит в землю. По его виду заметно, что он размышляет, переживает случившееся. Вопросительно посматривает на маму. Через некоторое время начинает просить у нее извинения:
— Больше не буду бегать туда.
А как Тома? Девочка трет глаза и всхлипывает. Ей кажется, что ее наказали за то, что она «плохая», за то, что мама не любит «такую девочку». Тома очень огорчена, что мама «ее не любит» и не согласна с тем, что она «плохая»... Тогда за что же просить извинения? Конкретность мышления, присущая детям дошкольного возраста, не дает возможности понять Томе настоящую ее вину, столь «зашифрованную» мамиными объяснениями. Всегда надо довести до сознания ребенка, за что его наказывают.
Неправильно поступают те родители, которые порицают самого ребенка, вместо того чтобы показать ему всю неприглядность его поступка. Маленькие дети лишены возможности оценивать свои поступки объективно, так как у них самосознание еще не развито. Они склонны считать себя хорошими, преувеличенно положительно оценивают свои поступки. Именно поэтому дети часто воспринимают наказания взрослых как недоброжелательное отношение к себе. У них появляется обида на близких, вместо осуждения собственного поступка. Вот почему важно, чтобы малыш понял, за что он наказан.
Прибегая к наказанию, мы непременно должны взвесить: справедливо ли оно? Не превышает ли мера наказания тяжести самого проступка? Недопустимо, если наказание выглядит как расправа над ребенком, если оно несоразмерно проступку. Такое наказание не приносит пользы и вместо раскаяния вызовет в ребенке озлобленность, отчуждение от взрослых, а это опасно, так как внутренний мир ребенка «закроется» для них. И тогда уже труднее будет найти путь к сердцу ребенка. Только справедливое наказание, учитывающее истинные мотивы детского проступка, может содействовать исправлению поведения ребенка.
А ведь иногда мы допускаем наказания за явно нечаянное действие ребенка. Малыш разбил чашку, разлил молоко или, играя в песок, запачкал платье и т. п., и мы наказываем его. За что же мы его наказываем? Ведь он не хотел этого сделать. Нам, наверное, просто жаль разбитой чашки, испачканного платья, и в этот момент мы больше думаем об ущербе, причиненном ребенком, чем о самом ребенке.
Часто родители вмешиваются в детские конфликты даже тогда, когда в этом нет необходимости. Разбирают сами, кто из детей прав, кто виноват, с категоричностью, не терпящей возражений, решают, кого наказать, кому уступить игрушку, кому следует просить извинения, не взвешивая, насколько это справедливо. Всегда ли нужна такая «помощь» взрослых? Старшие дошкольники и сами могут рассудить по справедливости, кто виноват. Взрослые же часто судят о проступке поверхностно, не вникая в его мотивы. В таких случаях «провинившийся» либо безропотно уступает натиску взрослых, либо упрямо настаивает на своем, затаив чувство неприязни к тому, кто с ним несправедливо обошелся.
Бывает и так: не разобравшись, кто из детей виноват, подчас наказываем не того, кого следует, лишь бы поскорее прекратить конфликт.
...Вот трехлетний малыш отнимает у другого игрушку. Оставшийся без игрушки бьет своего обидчика (как же иначе защищать свое право?). Однако и тот, который завладел игрушкой, тоже чувствует себя обиженным: его ударили! Он плачет. Вмешивается взрослый:
— Ты почему ударил Валю? Видишь он плачет. Пожалей его сейчас же!
Первый выражает протест: у него игрушку отняли, да еще требуют, чтобы он пожалел своего обидчика. Неподчинение взрослому расценивается им как упрямство, и он готов наказать малыша за непослушание.
— Велика ль беда — наказан не тот, который затеял ссору! Они еще малы, чтобы разобраться в таких тонкостях. Зато между детьми воцарился мир и согласие, — так оправдываем мы свои необдуманные действия.
Случается, что родители наказывают своего ребенка, хотя понимают, что не он виновен, а его товарищ, наказывают в назидание обоим (ведь чужого ребенка не накажешь!): вот, мол, это ты заслуживаешь такого наказания, но только лишь потому, что ты чужой, я наказываю своего, из-за тебя! Своему чтоб повадно не было!
Способны ли дети понять, какой подтекст скрыт в действиях взрослого? Конечно, нет. Один переживает незаслуженное наказание и поневоле испытывает чувство неприязни к своему сверстнику; другой рад, что его не наказали и, может быть, в следующий раз в отсутствие мамы или папы не станет задумываться, хорошо ли он поступает или нет (все равно наказать некому!).
Когда в семье двое-трое детей, то случается, что на старшего перекладывается ответственность за поведение младших детей. Это неправильно. Ответственность за собственное поведение и поступки ложатся на каждого из детей в зависимости от их возрастных возможностей. Поэтому недопустимо за провинность малыша наказывать старшего, мотивируя это тем, что «со старшего спрос больше».
Нельзя наказывать всех детей за проступок одного ребенка. Иногда это допускают неопытные родители и воспитатели.
...В старшей группе детского сада показывают диафильм. Все ребята сидят тихо, смотрят, затаив дыхание. Только Леша не может никак угомониться, он то и дело толкает соседа, отвлекая его своими репликами: «А я знаю, что дальше будет», «У меня дома есть книжка с такой сказкой»... Воспитательница уже не раз делала ему замечания, но Леша успокаивается лишь ненадолго, а затем все повторяется снова. Раздраженная Лешиным поведением, воспитательница прерывает показ диафильма, включает свет. Обращается к детям:
— Показывать больше не буду: Леша мешает, можете поблагодарить его за такое поведение.
Вместо одного Леши наказаны все дети. Безусловно, такой прием непедагогичен.
Случается, что и в семье за проступок одного из детей наказывают обоих. За провинность сына папа отменяет поездку на речном трамвае, и ни в чем неповинная дочка тоже остается дома. Не лучше ли поступить так: сын провинился — за это он и лишается прогулки на речном трамвае, а дочь, как было обещано, отправится вместе с папой. Поступая именно так, родители дадут возможность мальчику более остро прочувствовать свою вину, оттенив разницу в поведении брата и сестры.
Иногда мы склонны наказывать детей из-за собственного недосмотра за ребенком, из-за того, что не смогли предвидеть возможность нарушения ребенком установленного порядка. Поясним примером.
Трехлетний малыш идет по аллее парка и ногой толкает мяч. Мама с умилением наблюдает за неуклюжими движениями своего маленького «футболиста». Поощряемый мамой, ребенок все сильнее и сильнее ударяет по мячу. Игра продолжается до тех пор, пока мяч не залетает на середину клумбы. Мама решительно забирает мяч и прячет его в сумку: «Не умеешь играть с мячом, играй так!» Сын плачет, требуя вернуть игрушку. А ведь не трудно было маме предвидеть возможный исход такой игры. Для игры в мяч надо было увести малыша на площадку, где для этого достаточно места. А на узкой аллее, обрамленной цветами, мяч непременно закатится в недозволенное место.
Наказывая ребенка, мы всегда должны помнить, что делаем это ради самого ребенка, а не для того, чтобы дать разрядку собственным эмоциям. Малыш не должен расплачиваться за наш недосмотр, за наши ошибки, за наше настроение.
При наказании ребенка совершенно недопустима атмосфера скандала. Вы горячитесь и допускаете ошибку за ошибкой. Посмотрите на себя со стороны в этот момент: куда исчез ваш внушительный вид, чувство собственного достоинства? Что думает о вас в это время ваш ребенок? Неужели эта родительская истерика и есть воспитание малыша? Как бы вы строго ни обошлись с ребенком, все равно, раз вы потеряли чувство меры в выражении родительского гнева, считайте, что вы не достигли желаемого.
Очень важно, чтобы родители и воспитатели учитывали, какое влияние они оказывают своей личностью, своим поведением на ребенка в момент наказания. Ведь раздражение взрослых, выражающееся в тоне, жестах, отвлекает ребенка от смысла слов. Возбуждение взрослых невольно передается и ребенку, он начинает плакать, кричать. И ему, конечно, не до того, чтобы понять, в чем его обвиняют. Тон разговора с малышом, манеры держаться, выдержка, — все имеет в этот момент немаловажное значение. Главное — владеть собой. Недопустимо, если ребенок почувствует злобность в тоне взрослых, злорадство по поводу случившегося.
— Так, так! Опять натворил? — говорит папа пятилетнему сыну с издевкой в голосе. — Ну, что ж, не купим тебе новый костюм. Доигрался! Не умеешь беречь свои вещи — ходи в старом. Лучше я себе или маме что-нибудь куплю.
Малышу кажется, что папа только и ждал случая, чтобы отменить обещанное. Он не поверит в доброжелательность, огорчение отца.
Не лучше ли так.
— Как же так получилось, что ты не сдержал свое слово? — в голосе папы огорчение и удивление. — Ведь мы обещали тебе новый костюм купить. Как же теперь быть? Придется решать вместе с мамой. И ты сам подумай...
Неправильно поступают взрослые, если наказывают ребенка не за какой-то определенный проступок, а за несколько сразу. Проступки «накапливаются», и потом на виновного обрушивается наказание за все сразу, «чохом» — за вчерашнее, за сегодняшнее, за то, чтоб не повадно было впредь! Подобные «обобщения» не доходят до малыша, и он не понимает, за что наказан.
Совершенно очевиден вред частых наказаний. Наказания, применяемые часто, теряют свой воспитательный смысл. Они уже не вызывают у ребенка должной остроты глубоких переживаний, у него вырабатывается «защитная» реакция на наказания. Дети довольно стойко выдерживают родительский гнев, а потом даже хвалятся: «Подумаешь — наказали! Зато делаю, что хочу!» Таким образом, взрослые, посредством наказаний, получают результат, обратный ожидаемому. Более того, как это ни парадоксально, родители постепенно теряют свою власть над ребенком. Это особенно важно учитывать в отношении детей старшего дошкольного возраста, когда они уже способны критически относиться к действиям взрослых.
Ребенок должен воспринимать наказание, как явление из ряда вон выходящее, тогда он будет переживать его с подобающей остротой.
Нельзя наказывать ребенка трудом: провинился — за это будешь убирать комнату или мыть посуду, не послушался — присматривай за маленьким братиком и т. д. Естественно, что тогда у ребенка будет вырабатываться отрицательное отношение к труду, так как труд для ребенка становится наказанием.
Безусловно, в вопросах наказания члены семьи должны действовать согласованно. Даже в тех случаях, когда не все придерживаются одинакового мнения, надо ли наказывать и как наказывать, следует решать вопрос только в отсутствие ребенка. Недопустимо, когда один из членов семьи наказывает ребенка, а другой отменяет наказание.
...Мама наказала дочь: отменила обещание пойти с ней в кино на детский сеанс. Девочка сильно переживала случившееся. Видимо осознав свою вину, она просила извинения у мамы и у бабушки за то, что нагрубила им. Но мама решила быть непреклонной: уж сколько раз Светлана нарушала обещание. А ведь девочке уже седьмой год! Нельзя допускать, чтобы грубость укоренялась в ней.
Но бабушке горько было видеть опечаленное лицо внучки. Бабушка считала, что она причина Светиных переживаний, и готова была простить ей все дерзкие выходки — «лишь бы ребенок не нервничал». Улучив минуту, когда мама вышла из комнаты, бабушка шепнула девочке:
— Не расстраивайся! Мы еще посмотрим кино... Завтра же сходим... и мама не узнает! Только меня не выдавай.
«Заговор» осуществился на следующий же день, как только мама ушла на работу. Несколько дней это скрывалось от мамы, до тех пор пока Светлана снова не надерзила, и теперь уже папе.
— Неужели ты не поняла, Света, за что тебя наказали в прошлый раз? — возмутилась мама.
— А меня и не наказали, — запальчиво выкрикнула Светлана. — Бабушка хорошая, добрая, не то, что ты! Она меня простила и мы смотрели кино...
Разнобой в требованиях взрослых сбивает ребенка с толку: кто из близких прав, кого слушать? Разумеется, того, чьи указания совпадают с интересами ребенка. И ребенок делает неправильные выводы: «хороший» тот, кто заступается, «плохой» тот, кто проявил требовательность, наказал.
Плохо, если кто-то из взрослых откосится к наказанию, как к пустяку, не заслуживающему внимания: один — наказал, другой — заступился. Ребенок в таких случаях всегда будет рассчитывать, что кто-либо из взрослых заступится за него и, вместо того чтобы прочувствовать свою вину, будет искать защиты. Надо, чтобы ребенок почувствовал, что к его проступку серьезно относятся все члены семьи, что все в одинаковой мере испытывают чувство огорчения и уверенность в исправлении.
Всегда ли мы задаем себе вопрос: что извлек для себя ребенок в итоге наказания? Разве не бывает так, что наказали ребенка, посадили, например, отдельно на стул и... забыли о нем. А малыш, видя полное равнодушие взрослых к себе, начинает развлекаться возможными способами. Вот он рисует на обоях пальцем, смоченным слюной, что-то шепчет, раскачивается на стуле или просто наблюдает за взрослыми, занятыми своими делами. Наконец, он забывает, что наказан, и как ни в чем не бывало слезает со стула. Но в одних случаях ребенок действительно забывает, что он наказан, в других — начинает хитрить: делает вид, что забыл. Может ли ребенок извлечь урок из такого наказания?
А бывает и так. Накажут ребенка и тут же начинают требовать, чтобы он просил прощения. Это, пожалуй, самая распространенная ошибка родителей. По существу наказание сводится к тому, чтобы заставить ребенка сказать: «больше так не буду делать». А затем забывают об обещании и ребенок и взрослые. Ребенок к тому же делает для себя вредный вывод: что ни натворил — простят, стоит только попросить извинения. В результате у ребенка создается легкое отношение и к своим поступкам, и к наказаниям.
Важно постараться довести до сознания ребенка, за что он наказан. Мы должны учитывать, что взрослые и дети один и тот же поступок оценивают по-разному: жизненный опыт малыша настолько мал, что он лишен возможности объективно судить о своем поведении. Именно поэтому дети часто не признают своей вины, недоумевают, за что их наказали.
После того как ребенок извинился, у него полезно спросить, понял ли он, за что был наказан. Дети часто извиняются механически, даже не задумываясь, за что они просят прощения. Свое обращение к взрослым они так и формулируют неопределенно: «Я больше никогда этого делать не буду». В таких случаях целесообразно уточнить, спросив ребенка: «Чего не будешь больше делать?» Постарайтесь добиться от него понимания, за что он приносит извинения, например: «Я больше не буду без разрешения убегать на улицу». Такой разговор вполне уместен по отношению к старшим дошкольникам. С малышом проводить такую беседу не стоит, так как он вас не поймет. Малышу достаточно напомнить: «Теперь можешь идти играть. Только смотри больше не убегай на улицу один».
Всегда ли итогом наказания должна быть просьба ребенка простить его? Ведь дети иногда извиняются сразу же потому, что торопятся снова начать игру или пойти гулять или чтобы побыстрее избавиться от наказания. Но может случиться, что ребенок из упрямства не желает извиняться и долго упорно молчит. Самое главное заключается в том, чтобы ребенок прочувствовал свою вину. Не следует томить ребенка излишне долго, дожидаясь, чтобы он непременно извинился. Здесь надо учитывать особенности самого ребенка. Если он отличается упрямством, замкнутостью, то вряд ли уместно проявлять упорство. Чувство такта и меры должно подсказать взрослому, как поступить, чем завершить наказание. Например, можно сказать ребенку: «Я вижу, что ты понял, как нехорошо поступил. Можешь идти играть, я посмотрю, как ты будешь вести себя». А немного позже, когда ребенок будет в уравновешенном состоянии, ему можно напомнить о его проступке, показать на примере, к чему это приводит.
Часто родители, боясь поколебать свой авторитет в глазах детей, любыми способами добиваются от них извинения. В тех случаях, когда ребенок с легкостью приносит извинения, не всегда надо тут же его прощать; надо выяснить, что заставляет его торопиться — неосознанность своей вины, желание поскорей начать игру или равнодушие к наказанию. В таких случаях полезно сказать провинившемуся: «Не торопись, подумай как следует, в чем ты виноват».
Ну а как быть, если ребенок признался сам в своем проступке, заслуживает ли он наказания?
Если ребенок сам признался в проступке, сказал правду, надо отметить это, одобрив правдивость. Однако это не значит, что с него снимается ответственность за совершенное. Это не исключает порицания за неправильное поведение или отрицательный поступок. В таких случаях можно сказать ребенку: «Хорошо, что ты признался сам. Но все же ты виноват в том, что так поступил». Здесь уместна короткая беседа (конечно, не в форме нотаций), чтобы выяснить, насколько ребенок смог осудить свой проступок. Это вполне возможно по отношению к детям старшего дошкольного возраста, когда они уже способны оценивать свои действия. При этом не надо допускать излишней снисходительности, так как ребенок может в дальнейшем извлечь для себя неправильный вывод: каждый раз будет признаваться в своем проступке, лишь бы не быть наказанным. Ведь бывает же так, что ребенок совершает плохой поступок и тут же в нем признается, так как рассчитывает на то, что признание избавит его от наказания.
В таких случаях приходится учитывать многое: и индивидуальные особенности ребенка, и его поведение в целом, и ситуацию, при которой ребенок допустил отклонение в поведении, а также постараться понять мотивы детского проступка. И главное при наказании соблюдать чувство меры для того, чтобы у ребенка не пропало желание быть откровенным и правдивым.
Если вы видите, что малыш осознал свой проступок, ему очень неловко, он переживает случившееся, то не надо укорять его, чтобы не усиливать чувства стыда. Собственное переживание более благотворно повлияет на провинившегося, нежели наши нотации и наказания. Конечно, не следует быть чрезмерно снисходительными, ответственность за поступок ребенок должен чувствовать всегда. Заметив, что ребенок прочувствовал свою вину, можно даже предложить ему самому определить наказание (это допустимо по отношению к старшему дошкольнику). Трудно да и невозможно давать советы, как и чем наказывать ребенка. Ведь жизненный уклад каждой семьи настолько индивидуален, да и ситуации, в которых возникает вопрос о наказании, учесть невозможно.
Родители должны сами найти наиболее эффективные способы наказания (конечно, исключая телесные!), учитывая сложившийся между членами семьи стиль отношений, установившиеся духовные связи между взрослыми и маленьким, особенности самого ребенка. Известно, что при разных обстоятельствах одна и та же форма наказания воспринимается ребенком по-разному. Здесь мы только пытаемся определить общие принципы, которыми следует руководствоваться взрослым, допуская наказания как воспитывающую меру воздействия на детей. Как определить, заслуживает ли детский поступок «возмездия»?
Чтобы не ошибиться, пытайтесь всегда отличать поступок явно аморальный, от поступка, не причиняющего ущерба нравственному развитию личности ребенка. Если в основе проступка лежат безнравственные побуждения (к примеру, жадность, эгоизм, жестокость, лень, стремление причинить вред окружающим), то наказания оправданы.
Как уже отмечалось, мы часто наказываем детей не за сам проступок, который, возможно, и незначителен с точки зрения аморальности, а за неподчинение родительскому распоряжению.
— Обязан слушаться старших! Не послушался — получай по заслугам! — вот довод, дающий основание для наложения взыскания на ребенка.
Как мы бываем раздражены детским неповиновением! А почему ребенок перестал нас слушаться? Не потому ли, что мы не нашли к нему правильного подхода? Не потому ли, что наши педагогические приемы столь неоправданы, что вызывают в ребенке сопротивление?
Как правило, родителей больше возмущает, например, то, что малыш отказался от еды или промочил ноги, чем допущенная ребенком дерзость или грубая выходка по отношению к окружающим, и они наказывают ребенка по существу за незначительнее прегрешение, а то, что заслуживает серьезного порицания, спускают ему с рук.
Родителям, прибегающим к наказаниям, необходимо помнить, что наказание — это не «ломка» детской воли, а одно из средств воспитания воли, направленной на борьбу с тем плохим, что есть в ребенке.
Наказания, хотя они и являются сильной мерой воздействия, не дают быстрых изменений в поведении ребенка: не так-то легко перестроить привычный способ поведения. Воспитание — длительный процесс, требующий от родителей терпения, выдержки, применения самых разнообразных приемов и в первую очередь изменения условий жизни ребенка, отношений взрослых с маленьким.
И помните: любой из выбранных вами способов воздействия (даже наказание!) всегда должен быть основан на уважении личности ребенка.
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 255.
2 А. С. Макаренко, Избр. произвел., М., Учпедгиз, 1950, стр. 283.
3 А. С. Макаренко, Соч., т. 5, М., изд. АПН РСФСР, 1951, стр. 423.
4 К. Д. Ушинский, Собр. соч., т. 8, изд. АПН РСФСР, 1950, стр. 430.
5 А. С. Макаренко, Книга для родителей, Учпедгиз, 1956, стр. 227.
6 Феликс Дзержинский, Дневник и письма, изд. «Молодая гвардия», 1950, стр. 103—104.
7 Н. К. Крупская, Из атеистического наследия, М., изд. «Наука», 1964, стр. 186.
8 Феликс Дзержинский, Дневник и письма, М., изд. «Молодая гвардия», 1950, стр. 104.
9 Феликс Дзержинский, Дневник и письма, М., изд. «Молодая гвардия», 1950, стр. 104.