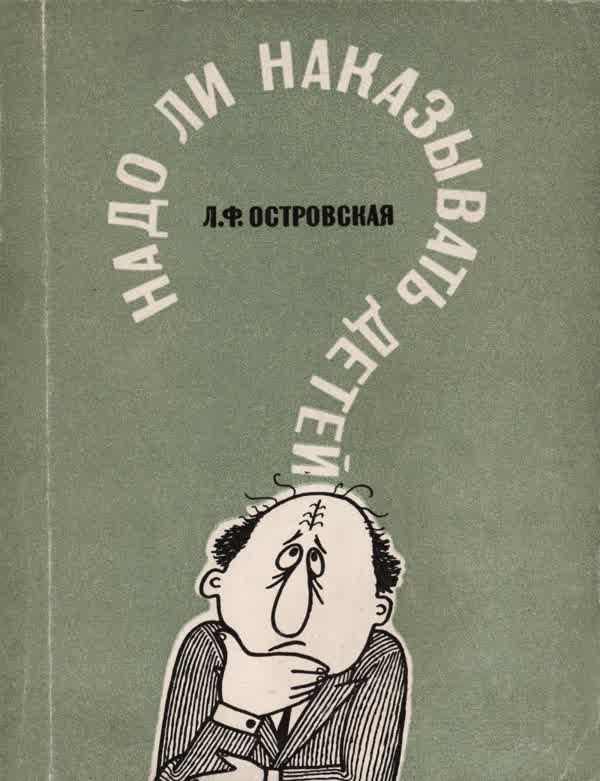
ВОСПИТЫВАТЬ У ДЕТЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ
Не только телесными наказаниями, грубостью или чрезмерной строгостью можно принести вред воспитанию ребенка, но и безграничной родительской любовью, когда ребенку все прощается, все можно, «потому что он еще маленький», а детские проступки расцениваются как забавные, остроумные шалости.
...Шурику 5 лет. В семье он единственный ребенок, ни в чем не знает отказа: «Пока Шурик мал, можно и побаловать. Подрастет — появятся заботы, не до баловства будет», — так часто оправдывают даже значительные проступки сына его мама и папа. Мальчик пользуется этим, так как уже успел уловить, что любая его выходка будет оправдана родителями.
Комнату только что оклеили новыми обоями. Шурик разрисовал их красным карандашом возле своего стола с игрушками.
— Да, над своим столом повесили картину!.. А здесь мое место: захотел — вот и нарисовал! — с вызовом говорит мальчик, беззастенчиво глядя на удивленную маму.
А что же мама? Она не усмотрела в этом ничего предосудительного. Более того, о проступке сына она поведала мужу в присутствии Шурика, как об остроумной невинной шалости:
— Посмотри, как наш художник разукрасил свою стенку!
— Ах ты постреленок! И ведь додумался же! — в тон маме подхватывает отец.
Безответственность, безнаказанность рождают новые, более изощренные проступки. По мере роста ребенка возрастает и его «изобретательность» в злостном озорстве. Особенно, когда детские «шалости» вызывают у родителей умиление, любование «остроумием» своего чада.
...Шурик подрос, скоро пойдет в школу. А в семье по-прежнему смотрят на озорство сына как на проявление «творческой энергии».
Мальчик ждет бабушку в гости. И вот, наконец, долгожданный звонок. Шурик мчится в прихожую, толкает дверь ногой, она стремительно распахивается и... на оторопевшую от неожиданности бабушку сваливается тяжелое пальто, надетое на длинную палку, прислоненную к двери.
— Это тебе сюрприз, бабушка, я придумал! — мальчик заливается смехом.
Но пожилому человеку не смешно.
— Ну ведь не больно же, — старается утешить бабушку мать Шурика. — Не сердись на него: он весь день тебя так ждал... Он больше так не будет... Правда, Шурик?
Вот и все: сыну ни слова осуждения. Наоборот, произнесенная матерью фраза — «Он больше так не будет» — полностью сняла вину с ребенка.
Можно ли воспитать у ребенка ответственное отношение к своим действиям при попустительстве взрослых, при столь снисходительном отношении к любым его проступкам? Если ребенок с ранних лет не знает ограничений своей «активности», то не приходится рассчитывать, что впоследствии у него образуется «само по себе» разумное отношение к собственному поведению.
Надо стараться как можно раньше воспитывать у малыша тормозные реакции. Тогда родителям легче будет руководить поведением ребенка, легче удержать его от плохих поступков. А. С. Макаренко в связи с этим писал: «Главный принцип, на котором я настаиваю, — найти середину — меру воспитания активности и тормозов. Если вы эту технику хорошо усвоите, — вы всегда хорошо воспитаете вашего ребенка.
С первого года нужно так воспитывать, чтобы он мог быть активным, стремиться к чему-то, чего-то требовать, добиваться, и в то же время так нужно воспитывать, чтобы у него постепенно образовывались тормоза для таких его желаний, которые уже являются вредными или уводящими его дальше, чем это можно в его возрасте. Найти это чувство меры между активностью и тормозами, значит решить вопрос о воспитании»1.
Случается, что при посторонних мы оправдываем те действия ребенка, которые следует осудить. Малыш замахнулся на отца, а мы спешим превратить этот поступок в шутку, он сказал дерзость, а мы умиляемся его «остроумию», ребенок не послушался нашего указания, а мы объясняем это тем, что его не научили послушанию в детском саду и т. п. Ложный стыд перед посторонними заставляет поступиться главным: рядом с нами ребенок, который впитывает все сказанное о нем, и если родители оправдывают его неблаговидные поступки при посторонних, то разве можно воспитать у него ответственное отношение к своим поступкам?
Если ребенок привыкает поступать, как ему заблагорассудится, руководствуясь лишь своими желаниями и не считаясь с мнением окружающих, то привить такому ребенку в дальнейшем понятия нравственности чрезвычайно трудно.
Ребенку, приученному задумываться над своими поступками, легче удержаться от дурных проявлений. Умение сдерживаться в свою очередь помогает воспитанию ответственного отношения к себе, которое так необходимо человеку в жизни.
С ростом ребенка все большую роль в его поведении начинает играть сознание. Очень важно уметь использовать возрастающее сознание ребенка в воспитании нравственного поведения, в выработке умения воздерживаться от нежелательных поступков.
Ребенок пяти — семи лет вполне способен оценивать требования взрослых и детского коллектива, способен к некоторому самоконтролю за своими действиями.
В детском саду воспитатели иногда прибегают к коллективной оценке поступков отдельных детей, что формирует у них осознанное отношение к собственному поведению.
Родители во многих случаях поступают так же, избирая такие формы воздействия, которые вызывают осознанное, активное послушание ребенка, без которого невозможно выработать у него ответственность за свои поступки.
...Мама заметила, что посаженные на балконе цветы кем-то оборваны. Кем, догадаться было нетрудно: у кукол на столе стоял букетик цветов. Мама сделала строгое замечание дочери.
Через несколько дней, как только на балконе стали распускаться новые цветы, все повторилось снова: опять у кукол на столе стоял букетик цветов.
Что делать? Легче всего накричать, наказать. А как сделать, чтобы ребенок осознанно отнесся к своему поступку и осудил его?
Мама рассказала об этом воспитательнице детского сада. Вечером, когда ребята выходили из-за стола после ужина, воспитательница сказала:
— Завтра мы будем собирать на нашем участке цветочные семена. Их у нас большой урожай в этом году. А ранней весной мы посеем их, и у нас вновь будет много цветов.
Потом воспитательница пообещала, что тем ребятам, кто хорошо ухаживает за цветами дома, она даст немного семян, чтобы посадить их у себя на окне или на балконе.
Послышались детские голоса: «Я хорошо ухаживаю», «Дадите мне?», «А мне?» Только Сима молчала, опустив голову.
Когда мама пришла за Симой, девочка бросилась ей навстречу:
— Мамочка, пожалуйста, не говори, что я обрываю цветы на балконе. Я так не буду больше делать!
При правильном отношении взрослых к детским поступкам ребенок постепенно начинает и сам оценивать свои поступки с точки зрения окружающих. Ему становится неловко, стыдно, если он чувствует осуждение своего поступка; он испытывает радость, когда его хвалят. Так создается основа для возникновения у ребенка оценки собственных поступков с нравственных позиций.
Какими методами вырабатывать у ребенка ответственность за свои поступки?
В одних случаях можно применить метод, использованный Симиной мамой, когда ребенок как бы со стороны видит свой поступок и сам приходит к выводу, что сделал плохо.
В других, когда ребенок уже способен к самооценке, можно объяснить, почему нужно поступить так, а не иначе. Иногда целесообразно побеседовать с ребенком о его поведении, сказав ему: «А если бы с тобой поступили так, как ты поступил со своим товарищем, тебе было бы приятно?»
В отдельных случаях допустимо обсудить с сыном или дочерью плохой поступок их сверстника. Но делать это следует не навязчиво, тактично.
...Шестилетний Никита рассказывает папе о своем друге:
— Володя сильный: кого хочешь поколотит!
— Да разве быть драчуном — хорошо?
— Ну и что ж, зато все знают, что он сильный и никого не боится! — в голосе Никиты восхищение своим другом.
Отцу ясно, что Никите хочется походить на своего товарища. Как развенчать драчуна, показав сыну всю неприглядность его поведения? Отец продолжает разговор:
— По-твоему, кто дерется, тот храбрый?
Никита отвечает убежденно:
— А то как же!
— Ты в этом уверен?
Никита молча смотрит на папу: размышляет. Папа продолжает:
— Ты помнишь, как вчера Володя обидел Лялю? Он еще хвалился! А чем хвалиться?
Снова Никита бросает быстрый взгляд на папу, в глазах вопрос.
— Ну, как ты думаешь, чем было хвалиться? Ляля меньше его на целую голову: значит, он храбрец против маленьких, да против девочек!.. Небось, с Лешей он не дерется.
Что можно возразить папе?
— Это только воробьи дерутся без толку! Вот так и скажи Володе: храбрый и сильный тот, кто может заступаться за слабых. А кто обижает тех, кто слабее, разве может считаться храбрым?
Если родители смогут вызвать у своего ребенка осуждение плохого поступка, значит, можно надеяться, что сын или дочь не будут так поступать сами. Дети, умеющие правильно оценивать отрицательные явления, становятся менее восприимчивыми к дурным поступкам, не станут подражать им.
Всему доброму надо учить повседневно, терпеливо. При этом не нужно навязывать детям готовых суждений: это — хорошо, а это — плохо, надо дать им возможность мыслить самостоятельно.
...Первые морозы затянули соседний ручеек хрустальной корочкой. Валерик и Женя решили проверить прочность льда: провалится лед или нет, если по нему пройти? И, конечно, провалились по колено в ледяную воду. Дома родители внушали детям: этого делать нельзя, можно заболеть. Предупреждение, к сожалению, не подействовало. Хотя и с оглядкой, «эксперимент» повторился на следующий же день. Родители Валерика и Жени, каждый по-своему, стали наставлять своих сыновей.
— Я тебе покажу, как не слушаться маму! Ты что, хочешь провалиться по самый пояс в холодную воду и заболеть? Запрещаю тебе подходить к ручью! Понял? — так Женина мама старается добиться повиновения сына.
Мать Валерика ищет другой путь воздействия на мальчика:
— Правда, что ты снова был у ручья и чуть не провалился? Как же так? Ведь предупреждала, а ты не послушал. Ты ведь знаешь, если заболеешь, мне надо будет сидеть с тобой дома, взять освобождение от работы... А мы сейчас заканчиваем нашу машину, я очень нужна на заводе, но я не смогу прийти, оставлю товарищей. Они не сдадут машину в срок.
— Не буду больше, — старается заверить Валерик свою маму.
— Хорошо. Я тебе верю, — говорит мама. — И Жене скажи...
Как вы думаете, от которого из мальчиков можно ожидать осознанного послушания? Способ воздействия Жениной мамы на своего сына не рассчитан на доверие к нему. Сам тон обращения к ребенку исключает это. Мама старается связать плохой поступок сына с возможным ущербом для самого ребенка.
Мама Валерика выражает уверенность, что сын послушает ее. Разговор ведется в доверительном тоне. Мать связывает проступок сына с возможным ущербом для других людей.
Вероятно, что внешне результат будет выглядеть одинаково: и Женя, и Валерик больше не подойдут к ручью. Но это только внешне. А по существу? Женя не подойдет к ручью, подчиняясь приказу мамы, внутренне, может быть, и не соглашаясь с запретом. Валерик осознанно соглашается с маминым распоряжением, сам решает, что не следует так делать.
Когда мы говорим о детском послушании, то имеем в виду не слепое, бездумное подчинение требованиям взрослых, а сознательное, добровольное, совершаемое ребенком с искренним убеждением в правоте взрослых, с желанием обрадовать родителей своим поведением. Послушание же под давлением авторитета старших («Этого не разрешаю!», «Поступай, как я велел», «Я кому сказала!») или послушание «из-под палки» сделает ребенка неспособным осмысленно относиться к собственным поступкам.
Конечно, без приказаний нельзя обойтись, особенно в раннем детстве. Однако по мере умственного развития ребенка к приказаниям необходимо добавлять другие педагогические приемы, рассчитанные на более высокую сознательность — разъяснение, убеждение словом, живой пример, поощрение. Так постепенно привычка к послушанию переходит в осознанную необходимость поступать правильно.
Добиваясь от детей ответственного отношения к собственным поступкам, мы не должны забывать об уважении к ним. Уважение к ребенку поддерживает в нем уверенность в себе, чувство человеческого достоинства. Предъявляя к ребенку требования, мы должны создавать в нем уверенность в том, что он с этими требованиями справится и мы можем на него положиться.
Наше уважение к ребенку прежде всего выражается в полном доверии, в чутком, внимательном отношении к нему, без скидок на то, что «он еще маленький» и с него еще ничего спросить нельзя. В пределах детских возможностей мы обязаны предъявлять требования даже к самым маленьким.
Доверие родителей поднимает самоуважение ребенка. Это чувство вызывает у ребенка неловкость за плохой поступок, неловкость за доставленное взрослым огорчение, разочарование в нем.
...Дети старшей группы вышли на участок. Сегодня им предстояло потрудиться в саду, окопать фруктовые деревца. Радостные и шумные, они столпились вокруг молодой яблоньки. Она пользовалась у детей особым вниманием, так как в этом году на ней впервые появились плоды. Чуть ли не каждый день ребята подмечали, что изменилось в ней: вот сегодня у одного яблочка покраснел бок, а эти два, что на верхней ветке, совсем-совсем одинаковые! За это дети называют их «яблочки-сестрички»... И вдруг чей-то звонкий взволнованный голос:
— Ребята, а здесь, на самой нижней ветке, кто-то яблоко сорвал!
Ребята зашумели. Теснее обступили яблоньку.
— Как же так? Ведь это самое большое яблоко было!
— Кто посмел?
— Может быть, это малыши?
Дети наперебой высказывали свои предположения.
Вмешалась воспитательница. Она предложила, чтобы тот, кто сделал это, честно признался в своем поступке.
— Тот, кто сорвал яблоко, — поступил нехорошо. Но он поступает вдвойне плохо, если трусит в этом признаться.
Воцарилась тишина.
— Пусть подумает тот, кто так поступил, что лучше: честно признаться или свалить вину на своих товарищей, а то и на малышей!
...Маргарита стояла с опущенной головой. Посмотрев внимательно на детей, воспитательница сразу догадалась, кто виновник происшедшего. Но она молчала, ожидая: признается или нет? Вдруг Маргарита решительно шагнула к воспитательнице:
— Валентина Васильевна, это я сорвала яблоко... Я не хотела, чтоб плохо вышло: просто нечаянно так получилось. Мама привела меня в детский сад раньше, и я решила посмотреть на яблоньку. Я сначала это яблоко только погладила и понюхала: оно холодное и пахнет вкусно... А потом... Я, ребята, больше никогда не буду, самое-самое честное слово даю!
Ребята снова зашумели, но воспитательница сказала:
— Мы поверим Маргарите, потому что она призналась сама в своем поступке. Тому, кто никогда раньше не обманывал, верить можно.
На том и порешили.
Правильно ли поступила воспитательница? Если бы она не проявила достаточного такта и выдержки, а резко осудила Маргаритин поступок, стала читать девочке нотации, стыдить ее («Как некрасиво!», «Теперь тебе никто верить не будет»), пожаловалась бы родителям, а те дома наказали бы дочь — все это могло привести к противоположному результату: к появлению у ребенка скрытности. В следующий раз девочка побоялась бы признаться в своем проступке. Более того, воспитательница могла бы утвердить и Маргариту и детей во мнении, что больше девочке доверять нельзя. Среди сверстников мнение воспитательницы несомненно нашло бы поддержку... И как знать, сколько потребовалось бы потом усилий, чтобы избавить девочку от недоверия окружающих.
Надо полагать, что общественное осуждение поступка Маргариты уже само по себе было для нее тяжелым наказанием.
Мы, взрослые, всегда должны поддерживать у детей веру во все хорошее, светлое, в красоту поступков людей и их отношений. Иные родители, сами того не желая, своим скептицизмом разрушают веру ребенка в чистоту и благородство человеческих поступков.
...Семилетний Павлик ехал с мамой в метро. И вдруг обнаружилось, что кто-то забыл в вагоне сверток. Один из пассажиров, заметивший оставленную вещь, обратился к рядом стоявшему подростку:
— Будь добр, передай, пожалуйста, этот пакет в стол находок. А то мне некогда: тороплюсь на вокзал к поезду.
Паренек взял сверток и вышел на первой же станции. Все видели, как он подошел к дежурному и стал его о чем-то расспрашивать...
Приехав домой, Павлик тотчас стал рассказывать папе о событии в метро.
— Теперь тот, кто забыл свой пакет, получит его в столе находок. Ведь правда? — заключает мальчик.
Папа пожимает плечами:
— Это еще неизвестно... Один растяпа потерял, другой растяпа нашел, да поленился отдать, куда следует!
— Растяпа! Почему? — спрашивает Павлик разочарованно. — Но ведь мальчик-то зато отдаст пакет куда надо!
— Ну это как сказать... Может быть, себе возьмет...
В одно мгновение хороший поступок людей был очернен.
А немного позже Павлик рассказывал своему приятелю:
— Мы ехали вместе с мамой... А один растяпа потерял пакет... А другой растяпа...
Так факт приобрел иное освещение.
А через некоторое время этот «безобидный» разговор получил неожиданное продолжение.
На столе у Павлика мама обнаружила чей-то альбом с марками. Мальчик сказал, что он нашел его во дворе на скамейке, видимо, кто-то из ребят случайно забыл его.
— И ты не постарался найти хозяина альбома, вернуть потерянную вещь? — спрашивает мама у сына.
— А зачем? Ведь я нашел его, и он теперь мой!
Вечером, когда папа вернулся с работы, все втроем обсудили событие. Долго пришлось убеждать сына, чтобы он рассказал ребятам во дворе о своей находке: может быть, хозяин альбома найдется. Но Павлик упрямился:
— А что, если меня обманут: скажет кто-нибудь, что это его альбом, а на самом деле не его?
Родители удивлялись, откуда это у сына? Почему не желает вернуть найденную им чужую вещь?
Так, сами того не желая, родители невольно заронили в душу ребенка недоверие к людям.
Как иногда ранит ребенка проявленное взрослыми недоверие к нему!
...Пятилетняя Лида принесла весной с улицы несколько веток тополя, чтобы поставить их в воду и понаблюдать, как из почек появятся листочки.
— Мама, посмотри, что я принесла! — торопится поделиться дочь своей радостью.
— Откуда взяла? Небось наломали? Как вас только в милицию всех не забрали!
Радость сразу померкла, стало обидно. Лида пытается разуверить маму:
— Да нет же! Мы не ломали сами. Это нам дали рабочие, которые подрезали деревья.
— Лучше не обманывай, все равно проверю...
В другой раз мама говорит Лиде, не разобравшись, кто из детей истинный виновник шалости:
— Только Лида могла натворить такое! От тебя этого и следовало ожидать!
Или:
— Отпускаю тебя гулять с Олей, и, наверное, зря: опять пойдете играть к ней домой, вместо того чтобы побыть на воздухе. Смотри, проверю!
Недоверие взрослого глубоко обижает ребенка и убеждает его и окружающих во мнении, что он плохой и от него все можно ожидать.
Ребенок не должен чувствовать, что родители следят за каждым его шагом. Постоянное недоверие взрослого держит ребенка в напряжении, вызывает стремление досадить им своим поведением. А может случиться, что ребенок, привыкнув к постоянному надзору, при родителях будет вести себя так, как от него требуют, зато в их отсутствие — как ему заблагорассудится. И то, и другое плохо. Без доверия к ребенку не воспитаешь у него ответственности за собственное поведение.
А ведь мы должны подготовить наших детей к дальнейшей жизни так, чтобы они умели устоять против различных «соблазнов», умели проявить стойкость, умели удержаться от отрицательных поступков, не попали под чье-нибудь влияние. Если мы выработаем в наших детях сопротивляемость ко всему дурному, то нам не придется опасаться, что они попадут под влияние «улицы», плохих товарищей (как часто именно этими «влияниями» мы оправдываем свой брак в воспитании детей). Всегда надо иметь в виду, что главное не в том, чтобы отгородить ребенка от дурных влияний, а в том, чтобы научить противостоять им.
Оптимизм, веру в человека надо развивать с малых лет. Именно вера в людей, в лучшие человеческие качества является краеугольным камнем нашей советской морали. С этой верой мы должны подходить и к воспитанию наших детей.
1 А. С. Макаренко, Пед. соч., изд. АПН РСФСР, 1948, стр. 241—242.