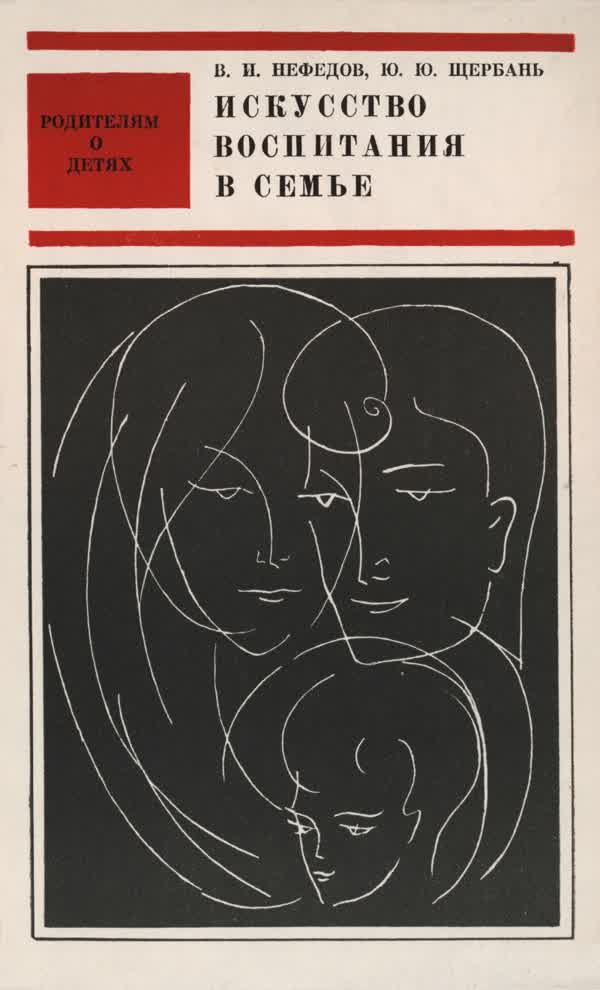
Пора ранней юности (16—17 лет) вносит специфически новое в духовный мир детей. Для ранней юности, например, характерно, что дети готовы спорить, доказывать, защищать свои взгляды и убеждения. Они требуют в доказательствах веских и убедительных аргументов. В сравнении с подростками юноши и девушки более спокойны, лучше умеют владеть собой.
В юношеском возрасте каждый жаждет стать «самим собой», найти себя, найти свое место в жизни. У юношей возникают вопросы: «Что я?», «Зачем я?» Правда, нередко они пытаются «найти себя» не в практической деятельности, а в углубленном самоанализе, причем этот анализ чаще всего сводится к сопоставлению присущего юноше идеала с какими-то чертами своего реального Я. Об этом лучше всего рассказывают юноши и девушки сами. Вот одно из писем в «Комсомольскую правду»1:
«И все-таки тревожно стучит внутри вопрос: что я? зачем я?
Раньше или позже люди все равно задумываются: а ведь я живу. Интересно — вот живу, и все: хожу, смотрю, люблю. И другие так. Надо бы сказать громко и властно: «Время, стой! Люди, остановитесь и скажите, зачем вы живете и живете ли!»
Сколько раз слышано-переслышано, что учиться жить надо у известных нам прославленных людей. Согласен. Но учиться жить безумно трудно.
Приходится стиснуть зубы, даже когда невозможно, когда боль (все равно какая) так сильна, что ой-ой-ой, — стиснуть и снова сказать себе: сам... И капельки пота, соленые и какие-то липкие.
Красивая жизнь, она вот эта — с потом, когда красота ее, прелесть — именно в грязных, потрескавшихся руках, в тех липких капельках.
Хочется посмотреть в окно, на город: торчат трубы, снуют машины, синеют дальние сопки, небо в пестрых полосках — закатное солнце балуется. Что это значит — жить? Прежде всего — идти. Именно идти, туда, где сможешь сделать столько, сколько в твоих силах, и даже больше».
Да, ранняя юность полна тревог и раздумья. Наших юношей и девушек все тревожит, в их суждениях много зрелого. Они уже начинают понимать, «что учиться жить безумно трудно». Отсюда ответственная роль родителей и педагогов в воспитании взрослеющих детей. Чтобы лучше справиться с этой ролью, родители должны глубоко осмыслить перемены, наступающие в жизни детей в ранней юности, знать и понимать их мысли, чувства, стремления, надежды и с величайшей осторожностью, чуткостью и вниманием к ним относиться, вместе анализировать и обсуждать сложные вопросы, которые волнуют юношей и девушек, чтобы не оттолкнуть их от себя в тот период, когда так нужна близость.
К исправлению просчетов в поведении детей этого возраста нужно относиться с чувством меры, с уважением их человеческого достоинства. Вот как, например, описывает одна старшеклассница разговор с мамой о совести:
«Однажды, придя из школы, я обрадованно заявила:
— Мама, я сегодня спасла себя от двойки.
— Как это?
— У нас была контрольная. Я не решила задачи и листочек не сдала. На следующем уроке вытащила его и все решила. На перемене попросила лаборантку, чтобы она мою работу положила в общую стопку. Она вначале не соглашалась, но я даже слезу пустила... Я так счастлива, мама!
— А совесть твоя спокойна?
Я замолчала, так как на самом деле ни тогда, ни сейчас не думала о совести.
— Я бы на твоем месте предпочла двойку и чистую совесть.
— Что же мне теперь делать?
— Поступай так, как подсказывает совесть. О ней не мешает лишний раз подумать, — ответила мама и вышла из комнаты.
Я подошла к книжному шкафу, взяла энциклопедический словарь, открыла нужную страницу. «Совесть — это чувство моральной ответственности перед обществом за совершенные поступки...»
Вошла мама:
— Ну, моя девочка, если ты совесть будешь искать в энциклопедическом словаре, то дела наши с тобой плохи. Положи на полку словарь и иди кушать.
Прошло несколько минут — я не могла прикоснуться к еде. Что-то меня мучило.
— О твоем поступке кто-нибудь из ребят знает? — спрашивает мама.
— Никто.
— А я-то уже подумала, что у тебя плохие товарищи: покрывают тебя».
Такое отношение со стороны родителей дети в ранней юности оценивают по достоинству. Здесь нет ни грубостей, ни строгих нотаций, но есть глубокий анализ нравственного проступка дочери. Можно надеяться, что этот разговор не пройдет бесследно в ее сознании. И в то же время грубость, нечуткость ведут к нежелательным последствиям.
В юношеском возрасте человек еще не имеет тех многочисленных связей с окружающим миром, которые есть у взрослых, поэтому он часто не осознает своей зависимости от окружающих и считает такого рода зависимость помехой собственной свободе. В этот период молодой человек во всех отношениях стоит перед выбором: надо определить свой нравственный идеал, выбрать профессию, найти друга. Все это, несомненно, очень сложно и трудно, и потому, естественно, рождаются сомнения, колебания, раздумья, а следовательно, возможны и ошибки в действиях.
Выбор друга связан с большим и прекрасным чувством любви, которое наполняет молодую душу и сердце особым светом и теплом и волнует молодого человека. В этом возрасте дети во всем более разборчивы. У них складываются свои вкусы и нравы. Они много спорят между собой, пытаясь доказать друзьям правильность своих взглядов, и в этих спорах чаще всего убеждают самих себя.
В ранней юности обостряется чувство собственного достоинства, поэтому совсем не легко, с трудом юноши и девушки прощают обиду, вызванную неуместно сказанным словом, резким тоном, окриком.
В родителях и педагогах они больше всего ценят справедливость, тактичность, искренность, остроумие и глубину мысли. Они не только не прощают бестактность и грубость родителей, но и осуждают их, платят презрением. Вот что пишет о своих родителях одна старшеклассница: «Я часто думаю, как могла такая умная, хорошая, красивая женщина, как моя мама, полюбить такого эгоиста, грубияна и невыдержанного человека, как мой отец. Он не любит, когда ко мне приходят подруги, поэтому у меня никто никогда не бывает. Он несдержан в выражениях, сквернословит.
Однажды на мой вопрос, был ли папа и раньше таким, мама ответила утвердительно. Когда я спросила, как она могла его полюбить, она промолчала. Но на вопрос, почему она не разошлась с ним еще в молодости, она ответила, что не хотела лишать меня отца.
А разве он у меня есть?
Ясно, что я не могу ничем поделиться со своим отцом, не делюсь я и с матерью. Она мне кажется беспомощной, жалкой. Бывают минуты, когда мне хочется вместе с ней плакать, а бывает, что я на нее злюсь: отец ее обидит, а она на следующий же день с ним разговаривает, все ему делает, подает как ни в чем не бывало!..»2
Да, дети не прощают тем родителям, которые эгоистичны, бестактны, грубы с ними. Они не могут им доверять своих мыслей и чувств, советоваться с ними по волнующим их вопросам, которые бывают так сложны в этом возрасте.
Самые лучшие взгляды, убеждения и надежды складываются в юности. Но юности не хватает жизненного опыта. Этим опытом могут обладать родители, учителя, старшие. Очень важно, чтобы именно в этот период родители и учителя, передавая юпым свой жизненный опыт, отнеслись с пониманием к их пылким душам, не испугали их жизненными трудностями, не сделали черствыми и равнодушными их отзывчивые сердца. В эту пору важнее всего душевная близость родителей и детей, так как только она позволяет заглянуть во внутренний мир сына или дочери.
Известно, что девочки более откровенны с матерью, а мальчики тянутся к отцу. И от родителей требуется, чтобы они вовремя откликнулись на это тяготение к ним сына или дочери. Близость сына к отцу, а дочери к матери помогут последним бережно направлять мысли и поступки своих детей. Здесь уместно привести интересный разговор отца с сыном, их письма из книги «Гражданин и семьянин»3. Они поучительны для родителей во всех отношениях.
Отец был раздосадован на сына до предела: в школе ему сообщили, что сын учится лишь на четверки, и то не всегда твердо, а мог бы стать отличником. Причина отцу ясна: сын запоем читает. Например, в последние два дня не отрывается от книги Дж. Лондона «Мартин Иден». Вот отец подходит к сыну, выхватывает книгу и гневно говорит:
— Ну, что ты в ней понял? Читаешь, лишь бы время убить! А учебу забросил. Ведь в девятом классе уже, должен понимать!
Сын молчит, наклонив голову, на щеках зажигаются красные пятна. Он очень дорожит мнением отца, и ему обидно, что отец ни в грош не ставит его.
— Ну, ладно, — спохватывается отец, видя, что сын чуть ли не плачет. — Я уезжаю в командировку на неделю. Мама нездорова. Ты за старшего, я на тебя надеюсь. А мне можешь написать открытку. Вот адрес...
Он пожимает Мише руку, прощается с матерью и, взяв чемоданчик, уходит на вокзал.
До самого вечера Мише было тоскливо. Он сходил в аптеку за лекарствами, сходил в садик за сестренкой и мысленно доказывал отцу, что он вовсе не так уж глуп. А когда все улеглись, он взялся за письмо отцу:
«Папка! Написал я тебе потому, что не могу молчать. Ты все-таки зря меня упрекаешь, что я будто ничего не умею делать и даже книжки просто глотаю, ничего в них не усваивая. То есть не совсем зря, у меня действительно это есть, но, скажем, «Мартина Идена» я не только «проглотил», а много понял, многое пережил. Просто я не умею сказать об этом, не могу рассказать, что я почувствовал, когда, не помня ничего, читал вчера вечером. Я понял Мартина, его одиночество даже среди друзей, которые его искренне любили, его любовь, страстное желание знаний. Но вряд ли кстати говорить об этом, скажем, за обедом, а таких минут, когда уместно и хочется говорить, очень мало. Я хорошо помню все наши прогулки по вечерам, наши разговоры о книгах, о жизни.
Вот ты как-то недавно сказал, что не стоит ходить в этот клуб, и я туда больше не хожу. А в школе я играю и в футбол, и в волейбол.
Напиши мне и приезжай скорее. Мама спит спокойно, Лялька тоже улеглась.
До свиданья, папка. Твой Миша».
Это письмо удивило отца. Совсем парень большой стал. И рассуждает толково, разбирается, значит, кое в чем. Правда, глупый еще, ну ведь мальчишка, что с него взять... Отцу было очень приятно, что сын так дорожит их короткими прогулками, и ему еще больше захотелось, чтобы он уважал его не просто как отца, а как умного, знающего человека. Письмо сына приоткрыло отцу уголок юной души. И отец тут же на почтамте пишет сыну ответное письмо (мы даем его в некотором сокращении):
«Дорогой сынок! Вот я и дождался первого самостоятельного письма от тебя. И если хочешь знать, именно сейчас, здесь, на Ростовском почтамте, понял, что сын у меня совсем уже взрослый, что скоро, совсем скоро мой старший станет мне настоящим товарищем. Понял потому, что такое письмо не может написать мальчишка...
Я принимаю твое замечание насчет «Мартина». Но и ты, в свою очередь, пойми, чем продиктовано наше с мамой беспокойство. Чем больше человек прожил, чем больше он знает, тем отчетливее видит свои собственные промахи, тем яснее ему возможные ошибки других, и оттого на сердце ложится печаль. А для родителей нет на свете ничего печальнее, чем ошибки детей. Мы с мамой вложили в вас не только силы и долгие годы заботы. Мы отдали вам всю нашу душу, всю нашу любовь. И будет нестерпимо больно, если вы не оправдаете наших надежд. Не подумай, что мы ждем от тебя с Лялькой чего-то несбыточного. Нет, мы просто хотим видеть вас настоящими, здоровыми, порядочными людьми. Мы хотим, чтобы вы нашли свою дорогу в жизни... И оттого волнуемся, видя, что ты чересчур увлекаешься чтением в ущерб остальному развитию».
Затем отец признается, что он в юности тоже читал «Мартина Идена», что он не любит героев-хлюпиков, поэтому любимыми были книги Дж. Лондона. Но только теперь он в «Мартине» увидел совсем другое. «Я понял глубокую душевную опустошенность его, его нравственную усталость, потерю желания бороться с жизнью — да, да, сынок, именно бороться с жизнью, ибо жизнь есть неустанная борьба с обстоятельствами, с людьми за свою правоту, за свое дело, наконец, это постоянная борьба с самим собой, со своими желаниями... Но у Мартина, в отличие, допустим, от меня, не было детей, ради которых стоит жить при любых обстоятельствах, не было такого друга, как моя жена — твоя мама, наконец, у Мартина не было нашего замечательного общества.
Хочу тебе повторить: не надейся, что папа с мамой, глядя на пушок на твоей верхней губе, перестанут делать тебе внушения. Нет, ты для нас в любом возрасте будешь нашим старшим, нашим первым сыном. И слушай наши внушения без возражений А твой возраст, твой растущий разум позволяют тебе отделять в этих внушениях то, что продиктовано лишь нашим беспокойством, от того, что следует воспринять, чтобы не сделать в жизни ненужных ошибок. Я подчеркиваю — ненужных, ибо нет людей, которые не делают ошибок. Важно только, чтобы избежать ошибок родителей и чтобы свои ошибки были поправимыми. Скажем, остаться без ног из-за глупого бахвальства — это уже непоправимая беда. Избрать не ту профессию — это дело поправимое, но... ценой потери многих лет жизни на нелюбимое дело... Женитьба не по любви или слишком рано, не успев, что называется, встать на свои ноги, — это хотя и поправимая, но весьма тяжелая беда, оставляющая глубокую душевную травму. И тому примеров много. Вот об этом не забывай.
Я тоже, сынок, помню наши прогулки. Думаю, что у нас будет еще немало таких прогулок и мы о многом сумеем потолковать. А сейчас будь повнимательней к маме... замени меня, пока я вернусь... И покрепче возьмись за учебу. Твои успехи теперь для меня дороже, чем мои собственные...» Затем отец пишет, что его интересуют способности сына, которые «пока еще рисуются туманно...».
«С удовольствием крепко, по-мужски, жму руку своему младшему другу. Твой папа», — кончает письмо отец.
Из этих двух писем видно, как крепла и развивалась мужская дружба, как дорожил сын мнением отца по всем вопросам жизни и как терпеливо и умно отец воспитывал своего сына.
Итак, юность рвется в жизнь, юным хочется быть взрослыми, они серьезно желают, чтобы с ними считались, чтобы уважали их разум и чувства. Впереди у юности долгожданная взрослая жизнь. Долг родителей, готовя их к жизни, помогать им во всем, уважать их юность, признавать их право на самостоятельность. Чтобы все это лучше понять, вспомните свою юность, свое стремление к самостоятельности, свое право на любовь — и вы станете лучше, терпеливее и сочувственнее относиться к протеканию ранней юности ваших детей. Вы должны видеть мир не только с позиции взрослого, но и с позиции ребенка.
1 «Комсомольская правда» от 24 сентября 1968 г.
2 Из сочинений, собранных Л. Григорян и опубликованных в «Неделе».
3 А. М. Гринина-Земскова. Гражданин и семьянин. М., «Просвещение», 1967.