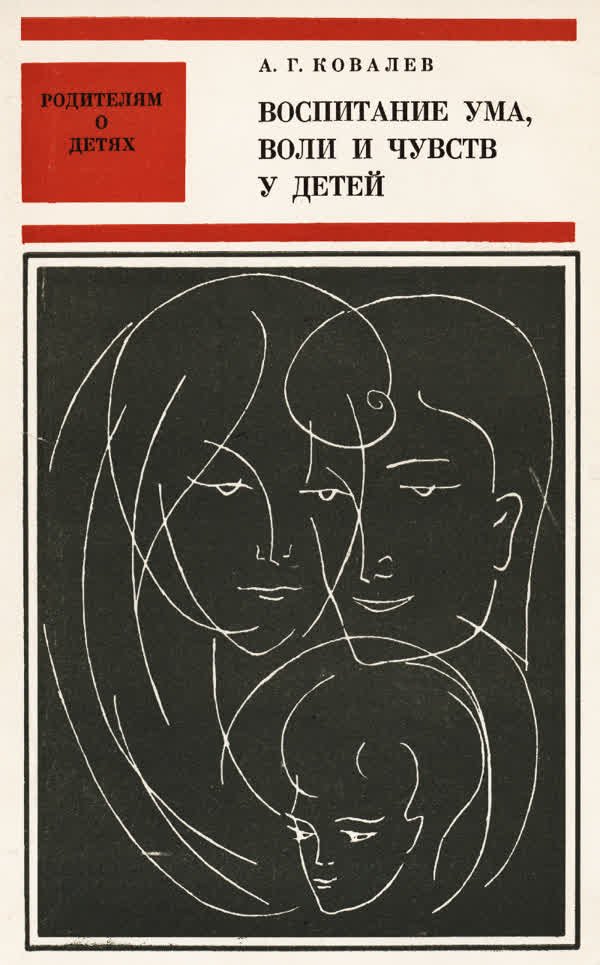Раздел II. ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ
ПОНЯТИЕ О ВОЛЕ
Воля является практической стороной сознания, она осуществляет реализацию сознательных намерений. Волевой человек является действенной личностью, которой суждены не только благие порывы, но и большие свершения.
Материалистическая психология учит, что содержанием, определяющим направленность воли, служит вся духовная жизнь личности как продукт отражения объективной реальности. Побуждать к совершению сознательных, волевых действий могут чувства, размышления, идейные мотивы, потребности и интересы, характер которых определяется внешними влияниями. «Воля, — писал Ф. Энгельс, — определяется страстью или размышлением. Но те рычаги, которыми в свою очередь непосредственно определяются страсть или размышления, бывают самого разнообразного характера. Отчасти это могут быть внешние предметы, отчасти идеальные побуждения: честолюбие и служение истине и праву, личная ненависть или даже чисто индивидуальные прихоти всякого рода»1.
Однако, в конечном итоге, за этими идеальными двигателями человеческих поступков и действий стоят экономические условия, потребности общества, отражающиеся в головах людей в виде идеальных сил, непосредственно побуждающих к той или иной деятельности.
То, что побуждает человека к действию — требования внешней действительности и требования организма, — должно отразиться в голове человека в виде ощущений и желаний, любви или интереса, сознания долга или чувства обязанности. Энгельс писал по этому поводу следующее: «Все, что побуждает человека к деятельности, должно проходить через его голову: даже за еду и питье человек принимается вследствие того, что в его голове отражаются ощущения голода и жажды, а перестает есть и пить вследствие того, что в его голове отражается ощущение сытости. Воздействия внешнего мира на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом — в виде «идеальных стремлений», и в этом виде они становятся «идеальными силами»2.
Человек, в отличие от животного, опосредует свое действие социальным опытом и постоянно соотносит импульс со всей сложностью ситуации, учитывает последствия своих действий, руководствуясь при этом общественными нормами поведения. Человек, испытывая голод, может временно отказаться от пищи, если это вызывается необходимостью. Человек может преодолеть страх и идти навстречу опасности, сознавая свой долг, более того, жертвовать жизнью во имя высоких идей служения Родине. Именно такие действия человека и могут быть названы волевыми. Такие действия вытекают из сознания далеких последствий своего поведения, они основаны на знании объективных закономерностей действительности. Постоянное соотнесение импульсов к действию с внешними условиями и с накопленным опытом обеспечивает наилучшую приспособленность человека к социальным условиям жизни.
В зависимости от жизненных условий и воспитания, характера жизненного пути личности образуются определенные, ведущие в ее жизни потребности и интересы, отношения, которые характеризуют избирательность волевой активности, направленности личности.
Рассматривая направленность воли как отношение, как сознательную целеустремленность, следует подчеркнуть значение цели в волевом акте.
Ф. Энгельс пишет по этому поводу следующее: «В природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются общие законы. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели...
Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»3.
Цель, подчеркивают классики марксизма-ленинизма, содержит в себе как направление, так и способ деятельности. Цель представляет собой не что иное, как стремление достигнуть определенного результата, иными словами, цель есть намерение, которое необходимо осуществить. Эти намерения или стремления возникают вследствие соотнесения возникших импульсов к действию с жизненным опытом и внешними обстоятельствами. В результате этого окончательно утверждается или тормозится то или иное желание. Цель представляется человеку как спонтанно возникшее желание, хотя при достаточном анализе она выражает сложившиеся под влиянием жизненных воздействий требования организма или требования общества, усвоенные конкретной личностью и ставшие требованиями к себе, своей жизнедеятельности в коллективе. «На деле цели человека, — указывает В. И. Ленин, — порождены объективным миром и предполагают его, — находят его как данное, наличное. Но кажется человеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы («свобода»)»4.
Будучи детерминирована (причинно обусловлена) объективной действительностью, цель человека направлена на изменение этой действительности с тем, чтобы обеспечить обществу и себе удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей. «Деятельность цели направлена не на себя самое... а на то, чтобы посредством уничтожения определенных (сторон, черт, явлений) внешнего мира дать себе реальность в форме внешней действительности»5. Следовательно, цель представляет собой не что иное, как практическое отношение человека к действительности.
Цель как закон определяет направление деятельности, цель мобилизует силы человека на действия. От значительности цели зависит энергия, с какой человек действует. Ясность великих целей, за которые борются советские люди, определяет неиссякаемую энергию, их победы в деле строительства коммунизма.
В свете этого становится понятна ошибочность буржуазных психологов, которые видят центр волевого акта в борьбе мотивов, ясным становится и ошибочное положение некоторых советских психологов, которые видят центр воли в действиях, в исполнении. Но действие ведь может быть слепым, импульсивным, не волевым, как, например, аффективное действие или как слепое исполнение приказа. Центр тяжести в волевом действии надо искать как в цели, так и в исполнении, реализующем поставленную цель. Достаточно исключить одно из этих двух основных слагаемых воли, как мы уже будем иметь человека, которому «суждены лишь благие порывы, но свершить ничего не дано», или же человек, который действует слепо, является рабом внешних сил и внутренних побуждений. Постановка цели и способ ее реализации, интенсивность, с какой преследуется достижение цели, зависят не только от требований обстоятельств, но и от характера и сложившейся ранее системы отношений человека к объективному миру и самому себе. Вот почему при одних и тех же обстоятельствах люди могут преследовать различные цели: одни — общественные, другие — эгоистические. В первом случае человек склонен забывать о мелких личных невзгодах и оставаться на высоте положения, во втором случае он не думает об общественных интересах и нуждах, общественных требованиях и обязанностях, обращая все силы на обеспечение личного благополучия.
Отношения человека определяют и характер волевого усилия, проявляемого индивидом при решении задач. Например, нам пришлось длительное время вместе с учительницей работать над тем, чтобы улучшить почерк школьника Вовы. Чтобы заставить мальчика писать лучше, учительница снижала на один-два балла оценки по письму, заставляла переписывать текст. Мы со своей стороны организовали упражнения в письме, предъявляя Вове определенные требования. Однако это ни к чему не приводило. Вова положительно относился к учению, был внимателен на уроке, успешно усваивал материал, быстро и правильно решал примеры и задачи, правильно писал и с недоумением относился к требованиям красиво писать цифры и буквы. Будучи дисциплинированным, он переписывал задания, но с большой неохотой. Нежелание переписывать плохо написанные упражнения говорит об отрицательном отношении Вовы к переписыванию и безразличном отношении к эстетической стороне письма. Когда мы это поняли, то начали всю работу снова. Для того чтобы выработать у Вовы положительное отношение к самому начертанию букв и цифр, надо было изменить его позицию. Для этого Вова ставился в игровой ситуации в положение учителя. В этом положении он должен был давать образцы, как красиво надо писать и учить других красивому письму. Наш эксперимент увенчался успехом. Вова скоро стал писать четко, чисто, без помарок. Теперь постоянно приходится наблюдать, с каким старанием Вова выполняет задания по письму, он стал проявлять большее терпение, усилие при выполнении домашних заданий. Следовательно, одни упражнения, без осознания их смысла, без формирования определенного отношения к заданию ничего не дают. Это надо учитывать как в учебной, так и в воспитательной работе с учащимися и со взрослыми.
Итак, в зависимости от отношения человека к делу определяется степень активности, с какой он реализует общественные задачи. Отсюда следует, что формирование воли, ее важнейших качеств неотделимо от формирования определенных отношений человека к общественным задачам, к своим обязанностям. Эти отношения должны подкрепляться практикой поведения и деятельности в коллективе.
В основе волевых движений и действий лежат процессы возбуждения и торможения. Благодаря открытию центрального торможения И. М. Сеченов смог объяснить самые сложные волевые явления, такие, как преодоление страстных желаний, как способность переносить боль и т. п., что в совокупности называется самообладанием, выражающим умение тормозить те или иные импульсы, идущие из внутренней среды организма или возникающие под влиянием внешних воздействий. В способности регулировать свои действия, в умении владеть собой И. М. Сеченов видел сущность воли. Насколько человек способен тормозить возникающие импульсы и в каком направлении он действует, зависит не только от настоящих воздействий, но и от тех отношений к этим воздействиям, которые сложились на протяжении всей предшествующей жизни человека.
И. М. Сеченов, отвечая своим противникам, приверженцам идеалистической теории «свободы воли», которые обвиняли его в том, что он будто бы отрицает значение нравственных идей, подчеркивал, что идейные мотивы, усвоенные нравственные принципы имеют огромное руководящее значение в жизни человека, но сами эти нравственные идеи и идеалы суть продукт обстоятельств и воспитания. «Высокий нравственный тип... может действовать так, как он действует, только потому, что руководится высокими нравственными принципами, которые воспитаны в нем всей жизнью. Раз такие принципы даны — деятельность его не может иметь иного характера»6.
Выясняя мозговой механизм произвольных движений и волевых действий, И. П. Павлов на основе экспериментальных данных пришел к выводу, что «весь механизм волевого движения есть условный, ассоциативный процесс, подчиняющийся всем описанным законам высшей нервной деятельности»7. И. П. Павлов экспериментально раскрыл сложную динамику нервных процессов возбуждения и торможения, лежащих в основе поведения и деятельности человека. Процессы возбуждения и торможения постоянно взаимодействуют: в одном случае они сменяют один другого, в ином — протекают одновременно, уравновешивая друг друга.
Всякая нормальная разумная деятельность всегда связана с уравновешенностью одновременно протекающих в различных участках мозга взаимодействующих процессов возбуждения и торможения. Так, в основе всякого волевого движения и действия, направленных на внешний объект, лежит возбуждение двигательного анализатора и других связанных с ним пунктов коры, регулирующих тонус и направленность движений в зависимости от требований задачи и физических свойств объекта. Но для того чтобы не потерять направленности движений, необходимо торможение других пунктов коры, которые могли бы противоборствовать и нарушать действие. В основе волевой задержки, наоборот, лежат процессы торможения, хотя эти процессы и вызваны возбужденным участком коры, связанным в данный момент с представлением или мыслью о нежелательности или неразумности того или иного действия или движения, к которому возник импульс. «Разве мы, нормальные люди, — говорил И. П. Павлов, — не задерживаем постоянно определенных наших движений и слов, т. е. не посылаем тормозные импульсы в определенные пункты больших полушарий»8.
На одной из «сред»9 И. П. Павлов прямо говорил о том, что вся нормальная система поведения основана на уравновешенности раздражительного и тормозного процессов. Понятно теперь также, почему И. П. Павлов считал представителей уравновешенного типа способными совершать подвиги в умственной и практической деятельности.
Рассматривая два вида действий человека — разумное, или волевое, и аффективное, или импульсное — и раскрывая процесс их совершения, И. П. Павлов писал, что первое отличается тем, что всякое побуждение взвешивается, при этом учитываются внешние условия и нравственные правила, а также последствия действий.
Академик П. К. Анохин, развивающий учение И. П. Павлова, более полно раскрыл структуру сознательного волевого акта. Сложное произвольное действие, по П. К. Анохину, включает: 1) анализ и обобщение информации, необходимой для выработки решения; 2) формирование аппарата действия и предвидения его результатов; 3) совершение действия и получение информации о нем (обратная связь); 4) сопоставление в аппарате предвидения («акцептор действия») результатов действия с той моделью, которая была ранее сформулирована мозгом10. Затем, если необходимо, идет коррекция действия. Таким образом, волевой поступок или действие, как видим, требует сложной аналитико-синтетической деятельности мозга на основе настоящей и прошлой информации о внешнем мире и о внутренней среде организма, его требованиях.
Повторная деятельность приводит к автоматизации и свертыванию процессов, а потому она с каждым разом протекает более быстро и точно, без субъективного ощущения напряженности. Волевая деятельность превращается в этих случаях в привычную активность, занимающую в жизни человека большое место. По Джемсу, привычки составляют до 99% всех действий личности. Это, конечно, преувеличение, но в этом подчеркивании значения привычного действия в жизни человека содержится истина. При образовании привычных действий на волю возлагается лишь функция пускового механизма. Когда же избирается новый путь деятельности или поведения, тогда снова формируется волевой акт.
Волевая активность может иметь различный характер в зависимости от проявляемой в ней степени самостоятельности личности. В этом плане следует различать относительно гетерономную и автономную волевую активность человека. Гетерономная активность — это деятельность по приказу, т. е. вынужденная, определенная другими лицами, руководителем, родителями, учителями, командирами. Личность в таком случае получает не только цель, но и план деятельности. Несмотря на вынужденность этой деятельности, она осуществляется индивидом сознательно в силу понимания ее необходимости, чувства долга и ответственности, а потому рассматривается как волевая. Личность, выполняя приказ, распоряжение, указание, отчетливо предвидит результат деятельности, преодолевает препятствия как внешнего, так и внутреннего порядка с тем, чтобы добиться поставленной цели.
Каждому человеку, живущему в обществе, в конкретном коллективе, приходится осуществлять гетерономные действия. Однако почти каждое особенно сложное гетерономное действие включает элементы самостоятельного опыта. Например, солдат, получающий приказ, действует сообразно обстоятельствам. Еще А. В. Суворов заметил, что каждый солдат должен знать свой маневр, т. е. проявлять личную инициативу. Какой бы план ни принимался, исполняющая его личность примеряет его к своим возможностям, знаниям и навыкам, способностям или творческим силам, а отсюда реализует его лучше или хуже, частично или полно, на низком по качеству или высоком уровне и т. д. Кроме того, имеют значение и обстоятельства, которые тоже могут сложиться не так, как предполагалось. Отсюда перед личностью стоит задача самостоятельного действия, необходимость проявления инициативы. Следовательно, гетерономная деятельность и поведение являются относительными.
Под автономной волевой активностью необходимо понимать самостоятельную деятельность человека. Люди, как свидетельствует опыт жизни, отличаются друг от друга по степени развития самостоятельности. Одни постоянно ждут указаний, что и как делать (гетерономный тип), другие проявляют почин, сами выдвигают задачи или предлагают более совершенные способы деятельности (автономный тип). Все это связано со многими свойствами личности.
Степень автономии активности личности может быть различной: в одних случаях она проявляет самостоятельность главным образом в почине, в выдвижении предложений, в другом случае — в способах решения задачи, поставленной коллективом, его руководителем. Наиболее ценным человеком является тот, который на всех этапах деятельности проявляет самостоятельность, инициативу.
Автономность активности личности зависит и от ее общественного положения, ее роли в коллективе, семье и т. д. Известно, что положение руководителя коллектива или семьи (в семье всегда есть руководитель: вводной эту роль берет на себя жена, в другой — муж) обязывает проявлять инициативу, самостоятельность в постановке и решении вопросов при опоре, конечно, на мнение и инициативу коллектива. Вместе с тем положение руководителя делает личность более свободной в принятии решений, что, конечно, не снимает ее ответственности перед коллективом. Вот почему люди оказываются более активными и инициативными, если они прошли школу руководства производственным, научным или каким-либо другим коллективами.
Автономность активности личности не снимает принципа детерминированности. Личность более автономна и свободна, если она познала необходимость, приобрела богатый жизненный опыт, овладела знаниями и навыками, если у нее воспитаны способности и т. д. В этом случае ей есть что и из чего выбирать, она может создать больше возможных вариантов действий и останавливаться на более разумном. Кроме того, следует отметить, что как гетерономность, так и автономность относительны. Каждая инициативная личность должна идти в ногу с коллективом, выполнять общие замыслы, подчиняться установленному распорядку жизни и труда. Полная автономия личности, следовательно, немыслима в обществе.
Разумное сочетание автономии и гетерономии в активности личности создает наиболее благоприятные условия для жизни и труда личности и всего коллектива.
АНАЛИЗ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ
Волевое действие сложно и имеет несколько этапов. Началом любого волевого действия является сознание цели. Цель — это предвосхищение результата, к которому стремится личность. Один человек имеет цель получить высшее образование, другой — овладеть определенной профессией, третий — воспитать у себя решительность и т. д. и т. п.
В основе цели лежат различные мотивы, под которыми следует понимать осознанные побуждения. К ним относятся потребности, интересы и социальные установки личности. Чем значительнее цель, тем большее усилие воли проявляет личность.
Постановка цели мобилизует мышление личности на оценку реальности желания, стремления, на оценку собственных возможностей и объективных условий. Этот мысленный анализ и сопоставление различных доводов и составляет второй этап волевого действия. И. П. Павлов говорил, что волевое действие требует соотношения потребности, отразившейся в голове в виде желания с реальными условиями и личными убеждениями и возможностями. Если цель деятельности морально оправдана, если она сознается как достижимая, то тогда наступает третий этап волевого действия — решение.
Решение — это окончательное санкционирование определенной цели и утверждение способа действия.
В некоторых случаях решение затягивается вследствие борьбы мотивов, когда сталкиваются между собой различные побуждения, например, различные потребности или потребности с чувствами и т. д. В этих случаях имеет место затяжной процесс взвешивания различных доводов за и против каждого побуждения. Если один из мотивов оказывается более значимым в социальном и личном отношении, то победа остается за ним, если же личность не может оценить, что для нее важнее, то борьба мотивов затягивается и решение или совсем не будет принято, или оно принимается по подсказке, или вследствие случайного выбора, что типично для безвольных людей.
Четвертым этапом и наиболее важным в волевом действии является исполнение.
Не случайно говорят, что благими намерениями выстлан путь в ад. И действительно, можно иметь самые благородные цели, но не бороться за их осуществление, более того, действовать в обратном направлении тому, что предписывает цель. Например, школьник дает слово систематически учить уроки, чтобы исправить двойки, но тут же идет в кино, не выполнив очередного домашнего задания. Вот почему о воле нужно судить по действиям человека, а не по его словам и намерениям, хотя и это нужно учитывать.
Исполнение требует фиксации в сознании цели и активной деятельности по ее реализации.
Нередко на пути к реализации цели встречаются трудности и препятствия, для преодоления которых необходимо волевое усилие. Волевое усилие — это не простое мышечное усилие, хотя и оно при физическом труде бывает необходимо; волевое усилие — это концентрация внутренних духовных сил для преодоления трудности. В процессе волевого усилия обостряется мышление (поиски выхода из трудного положения), становится более продуктивной память, а главное — возрастает внутренняя моральная стойкость, смелость и мужество. Человек способен вынести неимоверные трудности, лишения и добиться поставленной цели, несмотря на сложившиеся неблагоприятные объективные условия деятельности.
При достижении цели человек испытывает известное успокоение, разрядку или восторг в зависимости от сложности цели и ее общественной значимости. Вскоре у личности возникают новые цели и новые усилия по ее реализации. Следовательно, жизнь, борьба, деятельность требуют от человека волевого напряжения. Отсюда понятно, что лишь человек сильной воли может быть полезным не только обществу, но и самому себе в смысле собственного роста и развития как социально ценной личности.
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА СИЛЬНОЙ ВОЛИ
Человек сильной воли — это, прежде всего, человек с твердым цельным характером, проявляющий максимум энергии в деятельности, способный преодолевать трудности и препятствия, встающие на пути к достижению цели, и настойчиво доводить дело до конца.
Человек сильной воли, во-вторых, способен хорошо владеть собою, подавляя внутренние влечения, чувства и т. п., мешающие решению определенной задачи. Это человек, всегда владеющий собой, способный идти навстречу опасности, подавлять страх и отбрасывать сомнения и опасения. Это в полном смысле мужественный человек, обладающий выдержкой и упорством.
Человек сильной воли отличается последовательностью в деятельности и принципиальном решении жизненных вопросов. Это человек внутренне дисциплинированный, умеющий не только руководить, но и быть руководимым, не только принимать решения, но и претворять их в жизнь. В советских условиях это человек, ставящий общественные цели и потребности выше личных, следующий долгу, поведение которого выдержано с точки зрения моральных принципов.
Все качества, на которые мы здесь указывали, и определяют силу воли человека. К более детальному рассмотрению этих качеств и их природы мы и приступим.
1. Принципиальная последовательность воли. Психолог К. Н. Корнилов так определяет это качество личности: «Эта принципиальная последовательность заключается в том, что все действия человека вытекают из единого руководящего принципа его жизни, которому подчиняет все побочное и второстепенное»11.
Принципиальная последовательность воли вытекает из основных установок личности, из определенного мировоззрения, которое и служит руководящим началом, исходным направляющим мотивом деятельности человека. Мы не можем говорить о принципиальной воле человека, убеждения которого неустойчивы, изменяются со дня на день.
Принципиальность воли вытекает из такого мировоззрения, которое не является простым знанием, начетничеством, а из такого, которое выступает в качестве личного убеждения, которое человек готов отстаивать и за которое он готов бороться.
Советскому человеку свойственно быть принципиальным, последовательным в своем поведении и деятельности, потому что все его поступки и действия вытекают из великих коммунистических идеалов, беспредельной любви к Родине, глубокого понимания своего места в обществе, понимания единства и взаимообусловленности личных интересов и общественных, почему исполнение долга для советских людей не тяжкая обязанность, а естественное дело, органически необходимое для личности. В этом и состоит качественная особенность советского человека в отличие от людей капиталистического класса, для которых основным определяющим мотивом их поведения и деятельности служит нажива и которые готовы изменить всему и продать все во имя личного обогащения.
2. Выносливость и настойчивость воли. Настойчивой или твердой волей обладает человек, который способен к интенсивной и энергичной деятельности не только временно, при отдельных поступках или в начале действия, но и при разнообразной и при длительной деятельности, при выполнении даже скучной работы, при наличии трудностей и препятствий, возникающих на пути к достижению цели.
Выносливость и настойчивость воли являются основой прилежания, такая воля — это настоящая «рабочая воля». Примером настойчивости и упорства в достижении намеченной цели может служить Зоя Космодемьянская, у которой особенно ярко наблюдалось проявление этого качества воли даже тогда, когда она была еще школьницей и решала повседневные жизненные задачи.
Настойчивость воли особенно действенна при наличии трудностей и, казалось бы, неодолимых препятствий, которые нужно преодолеть на пути к цели. Человек сильной воли облагает как раз этим качеством, он не отступит назад, не растеряется перед препятствием, а приложит все силы к его преодолению и достигнет намеченной цели.
3. Мужество. Мужество — это отсутствие страха перед опасностью или умение преодолеть страх и идти навстречу опасности во имя достижения поставленной цели. Мужество — основа храбрости и отваги. Мужество связано с самообладанием и выдержкой. Человек с самообладанием не теряется в критические минуты, не поддается панике, сохранит ясность ума, трезво оценивающего обстоятельства, и найдет выход из любого тяжелого положения. Выдержка — это способность переносить большое напряжение, преодолевать чувство усталости, переносить боль. Человек, обладающий этими способностями, всегда проявит выносливость, настойчивость воли. Примером человека, сочетающего все эти качества, является советский летчик Алексей Мересьев, несокрушимую волю которого описал Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке».
Алексей Мересьев одиннадцать дней выползал из немецкого тыла, не имея пищи и испытывая боль от раздробленных ступней ног, страшно опухших. Сперва он шел, ступая на снег раздробленными ногами, но когда такой способ передвижения стал невозможен, он срубил палку с рогатиной на конце, опирался на нее подбородком и руками и делал шаг за шагом. «Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку», ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Когда и такое передвижение стало невозможным (выбился из сил, совершенно отощал), Алексей стал передвигаться ползком, делая «шаги» руками. Так полз он еще день, два или три. Счет времени он потерял... Порой не то дрема, не то забытье овладевали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно ползти, пока не натыкался на дерево или куст, или не оступалась рука, и он падал лицом в талый снег... Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться вперед во что бы то ни стало. Но ползти уже было трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег... Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях, а затем катился.
Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от страшной этой работы всех его слабевших мышц он на мгновение потерял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу — на звук канонады, точно на восток».
Спрашивается, где источники той неиссякаемой воли, которая вдохнула жизнь в этого полуживого человека, эту огромную энергию? Умереть было легко, но он хотел жить и бороться, ненависть к врагам поддерживала его жизнь и стремление к борьбе, порождала его силы. Звуки далекой канонады вели его, неумолимо звали и приковывали его внимание. Там, откуда несутся звуки боя, сражаются наши, и туда нужно идти. Он встретился с советскими людьми, он среди своих. Алексей был в таком состоянии, что по костям, выступавшим на груди и руках, можно было изучать строение скелета человека, но, несмотря на это, у него сохранился мощный дух, сильная воля. В госпитале «иногда до утра лежал с открытыми глазами, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не стонать». «Даже тогда, когда ему объявили, что состояние сердца не позволяет усыплять его и операцию придется делать под местным наркозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика».
Еще поразительнее и величественнее предстает картина того, как этот летчик с ампутированными ступнями обеих ног упорно учился ходить на протезах, и не только ходить, но и бегать, танцевать — и все для того, чтобы снова стать летчиком-истребителем. Все им было преодолено на этом пути. После упорной, настойчивой тренировки он стал ходить так, что трудно было заметить или поверить, что он на протезах. Еще труднее было поверить всем окружавшим его, что он станет летать, станет летчиком-истребителем. Однако при колоссальном напряжении сил, упорстве, мужестве, настойчивости он преодолел, казалось бы, непреодолимые трудности, но добился того, что протезы стали такими легкими, податливыми и гибкими, как свои собственные ноги. Он снова стал летчиком-истребителем и снова показывал высшее летное искусство и, героически сражаясь, побеждал лучших немецких асов.
Подвиг летчика Мересьева, выражающий исполинскую волю, не есть нечто необычайное, единичное. Подобные подвиги мы наблюдали в массовом масштабе у воинов в период Отечественной войны, защищавших свою Родину. Это качество выносливости и настойчивости воли советского человека определяется новой его природой, новым его сознанием, новым его отношением к явлениям и событиям жизни. Советский человек прошел закалку, мудрую школу социалистического строительства и потому он непобедим.
4. Решительность воли. Это качество характеризуется отсутствием излишних колебаний, быстрым, но обдуманным принятием решений и смелым проведением их в жизнь. Особенно решительность проявляется и вместе с тем проверяется в случаях, когда ситуация сложна и нужно из многих возможных действий выбрать правильное и где действие сопряжено с большими трудностями и опасностями. Решительность особенно необходима человеку в условиях военной деятельности. Без нее не может быть ни хорошего полководца, ни хорошего солдата.
Известно оригинальное высказывание по этому поводу русского генерала Драгомирова. Кто колеблется, писал он, всегда рискует быть побитым, потому что вследствие колебаний он ничего не в состоянии делать, между тем как противник действует. Неспособный решиться на что-нибудь похож на человека со связанными руками, с которым всякий может сделать, что хочет. Поэтому в военном деле должно принять за безусловную истину, что самая опасная из решимостей — это ни на что не решаться. Самое дерзкое, хуже, самое необдуманное предприятие не представляет такого риска, как нерешительность.
Нерешительность — следствие затяжной борьбы мотивов. В результате этого решения затягиваются или совсем не принимаются. Сомнения и неуверенность, наблюдающиеся здесь, мешают решительному действию, а если действие и наступило, то оно быстро и заканчивается, не будучи завершенным. Нерешительность свойственна людям бесхарактерным, неустойчивым в своих воззрениях, у которых нет более или менее устойчивых принципов, определяющих жизненный путь личности, ее стремления и поступки.
В. И. Ленин всегда относил нерешительность к свойствам мелкобуржуазных элементов общества, которые то крикливы, то плаксивы, то «смелы», то трусливы и во всем и всегда проявляют колебания, сомнения. Они всегда неустойчивы и половинчаты в своих мыслях и действиях.
Во французской психологической литературе описан яркий случай, когда молодому человеку нужно было дать решительный ответ. Долго колеблясь, он так и не мог прийти к определенному решению. Написав два письма, в одном из которых давался положительный, а в другом отрицательный ответ, отправился на почту, надеясь на то, что решение наконец придет само. Опустив письмо с отрицательным ответом, он передумал, сел в поезд и поехал, чтобы дать положительный.
Решительность играет большую роль в деятельности, особенно в сложных жизненных ситуациях, требующих определенных решений и непосредственного действия (например, боевая операция), связанного с осуществлением принятого решения.
Решительность свойственна людям, во-первых, хорошо знающим свое дело, во-вторых, уверенным в своих силах, в-третьих, морально твердым, обладающим мужеством и выдержкой и, наконец (и это главное), людям, ведущим борьбу за правое дело, людям, на знамени которых написано: служить народу, Родине до последней капли крови.
Такими людьми являются советские люди, показавшие всему миру, на что они могут решиться, на какие жертвы пойти во имя независимости своей Родины.
5. Инициативность воли. Инициативность — одно из основных и ценнейших качеств волевого человека. Инициативный человек способен самостоятельно решать вопросы, а не ждать по всякому поводу указаний от других, как это наблюдается у педантов, бюрократов, не способных решать дело по собственному почину.
Существенную роль в проявлении инициативности играет умение видеть перспективу и самостоятельно мыслить. Человек, наделенный творческим воображением, увлекающийся планами преобразования действительности, всегда проявляет в жизненной практике инициативность.
Социалистическая действительность с ее богатыми возможностями разнообразной деятельности, с возможностями развертывания творческих сил народа способствует развитию инициативности советских людей. Если это рядовой рабочий — он проявляет свою инициативу в рационализации труда и становится новатором, если это колхозник — он проявляет инициативу в выращивании богатого урожая, новых видов растений и т. п. Если этот человек является представителем науки — он прокладывает новые пути в ней, открывает новые страницы. Для инициативы у нас имеется широкое поле применения, богатые возможности ее проявления, и эти возможности кроются в новом отношении к труду, социалистическом отношении, когда инициатива поощряется нашим государством и культивируется нашей партией. Только господствующие классы капиталистических стран стремятся выращивать рабов, автоматов, не умеющих думать, но способных послушно исполнять волю господина, только капитализм представляет благоприятную почву для выращивания всякого рода «чинуш», для которых важно не само дело, которое они выполняют, а то, что они за него получают, не то, что оно дает обществу, а то, что оно дает им лично. Для этих людей основной девиз «отсель — досель», делать только то, что указано. Да и сам труд, как тяжелое бремя, как проклятие, как средство угнетения одних и обогащения других, выбивает почву для проявления инициативности. Таким образом, инициативность с ее качественно новой направленностью есть свойство советского человека, определяемое новым общественным устройством и новыми отношениями людей, складывающимися в социалистическом обществе.
6. Моральная воспитанность воли. В. И. Ленин характеризует эту сторону воли как умение подчинять свои личные интересы интересам коллектива, класса, когда поступки человека определяются принципами общественной морали. Ясно, что поступки, исходящие из эгоистической буржуазной морали, носят один характер, а поступки и действия, вытекающие из коммунистической морали, носят совершенно иной характер. Для советских людей чувство долга перед Родиной и своим народом является неиссякаемым источником героизма на поприще мирного строительства и защиты своего Отечества.
В бессмертном подвиге рядового Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота, выражается эта исполинская нравственная сила воли.
Единство воли, выраженное в дисциплине, вытекает из понимания долга, необходимости, из сознательного подчинения определенному решению и не только формального его признания, но и неуклонной деятельности, направленной на реализацию этого решения. Только при этих условиях воля индивида сливается воедино с волей других людей, волей коллектива, становясь единой волей. Только такая воля является действительно морально воспитанной, а дисциплина — подлинно сознательной. Только такая единая воля явилась источником героических побед советских людей в мирном труде и защите Родины, только такая воля — залог неуклонного движения вперед по пути построения коммунистического общества, только такая воля коренным образом отличает волю советского человека от эгоистической воли людей капиталистического общества, где человек человеку волк, где человек не может стать выше индивидуалистических, эгоистических устремлений, не может поступиться личным во имя общественного блага, во имя долга.
Описанные качества человека сильной воли образуются в результате определенного воспитания и деятельности индивида. Социальные условия жизни и деятельности имеют исключительное значение в формировании известных качеств. Вот почему мы всегда подчеркиваем, что такие-то качества присущи советскому человеку, так как коммунистическое воспитание может их породить, развить и укрепить.
Основные качества воли начинают формироваться уже у ребенка. Условиями этого формирования являются: подражание окружающим, сознательное стремление развить у себя те или другие волевые качества, учеба и труд ребенка-школьника и, наконец, привычки, которые возникают у него в процессе деятельности.
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛЕВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (Аномалии воли)
Характеризуя качества человека сильной’ воли, мы указывали на тот факт, что все они взаимосвязаны и только наличие всех их в известной степени развития определяет сильную волю. Однако бывают случаи, когда одно или несколько качеств воли слабо развиты, и тогда мы имеем дело с той или иной формой волевой недостаточности, или, как часто говорят в науке, с аномалией воли.
Волевая недостаточность может проявляться в чрезвычайно многообразных формах. Мы не имеем возможности описать все их, а потому и останавливаемся только на весьма ярких, чаще всего встречающихся в жизни случаях. Все формы волевой недостаточности, для удобства их рассмотрения, мы разбиваем на два вида: а) пассивные формы волевой недостаточности, б) активные формы волевой недостаточности.
а) ПАССИВНЫЕ ФОРМЫ ВОЛЕВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
1. Легкая внушаемость и несамостоятельность. Люди с такой формой волевой недостаточности характеризуются чрезвычайной уступчивостью чужому влиянию и легкой податливостью воле другого человека. Для таких людей прав тот, кто говорит последним, мнение последнего является и их мнением, они делают то, что предписывают или приказывают другие. Предприимчивость и инициатива отсутствуют, настойчивость незначительна. Такая форма волевой недостаточности связана чаще всего со слабым развитием принципиальности. Человек в этом случае не выработал определенных взглядов и убеждений, которым он мог бы следовать в жизни. Само собою попятно, что легкая внушаемость и несамостоятельность находятся в обратно пропорциональной зависимости от возраста. Дошкольники, например, настолько внушаемы, что могут поверить в явно нереальные вещи. Они легко верят сказке и переживают за судьбу персонажей, как за судьбу живых людей. Если ребенок, например, упал и ушибся, то бывает достаточно матери подуть на ушибленное место и сказать: «Теперь не больно», как ребенок успокаивается, перестает плакать.
2. Апатия. Апатия более тяжелая форма волевой недостаточности, близкая к болезненному состоянию депрессии, когда у человека исчезают всякого рода желания, стремления, ему «все равно». Такой человек безразличен к событиям жизни, мнению других людей и т. п. Сонливость — характерное для него состояние. Хорошей иллюстрацией апатичного человека может служить образ Лубкова из известного произведения Г. Успенского «Нравы Растеряевой улицы».
Апатия может быть вызвана тяжелым переживанием (горе, отчаяние), когда «у человека руки опустились», или общей притупленностью чувств, когда ни радость не возбуждает, ни горе не вызывает волнения. Апатия нередко бывает связана с такими нервными заболеваниями, как истерия, неврастения, и душевными болезнями — меланхолия и депрессия.
Хотя все дети отличаются большой активностью и в первую очередь физической (они не могут усидеть на месте, всегда в вечном движении), все же иногда приходится наблюдать и апатичных среди школьников. Это бывают дети с физическими недостатками, которых дразнят сверстники, или дети, потерявшие веру в свои силы и способности, для которых все стало «все равно»; наконец, пассивные встречаются в семье, где ребенка слишком муштруют или во всем опекают. Я как-то встретил школьницу-подростка, которая и училась без старания и в общественной жизни класса не принимала участия, и подруг не имела. Оказалось, что она воспитывалась дома одна, родители подруг к ней не допускали, так как боялись, что они могут занести инфекцию или привить дурные нравы. Самостоятельность была подавлена беспрекословными приказами вести себя так-то и делать то-то. Отсюда потеря интереса ко всему.
3. Нерешительность. Нерешительность — это форма волевой недостаточности, проявляющаяся в неспособности остановиться на одном существенном мотиве и решить действовать в известном направлении. У нерешительных людей наблюдается длительная борьба мотивов, сопровождающаяся тяжелым состоянием самосознания собственной беспомощности. Нерешительные люди или совсем не принимают никакого решения или принимают случайное решение, утомившись от душевной борьбы. Но и это принятое решение не доводят до конца и часто меняют, уже приступив к исполнению. Примером может служить образ Подколесина из комедии Н. Гоголя «Женитьба». Нерешительность связана с отсутствием стержневой линии поведения, в результате чего возникает обилие всякого рода сомнений относительно того, какой путь деятельности избрать. В крайних случаях нерешительность связана с болезненным состоянием, «бредом сомнений» и болезненною мнительностью. Дети редко проявляют нерешительность, наоборот, они опрометчивы в своих решениях.
4. Отсутствие настойчивости и выдержки. Есть люди, которые принимают много решений, но никогда не доводят их до конца. У таких людей нет выдержки. Их пугает новый шаг, который они должны предпринять, их пугают трудности, которые стоят или могут возникнуть на пути деятельности. Принимая решения, они, однако, боятся выйти из своего полусонного, пассивного состояния. Примером такого человека может служить Обломов. Отсутствие настойчивости и выдержки часто определяется развившейся леностью с слабо развитой способностью к волевому усилию.
У некоторых детей дошкольного и школьного возраста наблюдается отсутствие настойчивости и выдержки. Такие дети могут горячо браться за дело, но опускать руки при первой же трудности: Такая картина наблюдается у тех школьников, которые воспитывались в семье, где их всячески опекали, оберегали от трудностей, где родители все делали за детей, в том числе и уроки.
б) АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВОЛЕВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Этот вид волевой недостаточности противоположен первому. Люди этого вида на первый взгляд кажутся необычайно энергичными и настойчивыми. Одни из них бурно на все реагируют, порывисты в решениях и действиях, другие, приняв решение, цепко за него держатся даже тогда, когда оно неразумно, а может быть, и вредно.
Соответственно этому можно наметить две формы волевой недостаточности: импульсивность и упрямство.
1. Импульсивность. Импульсивность характеризуется чрезвычайной порывистостью к действиям даже тогда, когда мотивы не взвешены и решение не обдумано. Таким людям свойственно неудержимое стремление к немедленному действию, чтобы достигнуть желаемого. О таких людях в народе говорят: «Что на уме, то и на языке», «Горячие головы», «Не человек, а порох» и т. п.
Импульсивные люди действуют «очертя голову», т. е. необдуманно, беспланово, под влиянием вспыхнувшего чувства, а потому и не достигают целесообразных результатов. Прекрасной иллюстрацией такой формы волевой недостаточности могут служить образы из произведений Н. Гоголя: Ноздрева («Мертвые души») и Кочкарева (комедия «Женитьба»), Импульсивность характерна людям с сильными и бурно протекающими чувствами, неспособными к самообладанию и выдержке, людям, которые не выработали самоконтроля, людям «разбросанным», с неустойчивыми интересами и стремлениями. Это люди с ярко выраженным безволием, внешне проявляющимся в бурной, малоосознанной активности.
Импульсивность характерна особенно для младшего дошкольника. Она связана с естественной для этого возраста недостаточной тормозимостью, т. е. неразвитой еще способностью сдерживать первые порывы, чтобы все основательно обдумать, а также с недостаточностью жизненного опыта и ограниченностью знаний. В школьном возрасте также встречается немало импульсивных ребят, особенно среди очень эмоциональных подростков. У старших школьников импульсивность резко снижается, но зато иногда наблюдается нерешительность. Куда пойти учиться, какую профессию выбрать — это решается нередко мучительно долго.
2. Упрямство. Упрямство проявляется в бессмысленной «настойчивости», в стремлении цепко держаться принятого решения даже тогда, когда человек, его принявший, сознает, пусть даже смутно, его неразумность. Упрямство — это ярко выраженное безволие, пародия на волю. Человек нередко проявляет упрямство из страха показать свою слабость другим или из боязни уступить, чтобы не попасть под чужое влияние. Упрямые люди бывают несносны, смешны, а иногда и жалки.
Упрямство связано со слабостью критической оценки, неспособностью спокойно и всесторонне обдумать собственные мотивы и доводы других, тупой неповоротливостью ума.
Упрямство — нередкое явление, отмечаемое у детей, в особенности у подростков. Они хотят быть самостоятельными. В силу ряда причин они не всегда принимают верные решения или совершают проступки, но не хотят в этом признаваться ни себе, ни другим, а если и осознают ошибочность собственного поведения, то боятся показаться окружающим слабыми и уступчивыми, а потому упираются, оправдывая совершенное ложными доводами12.
В заключение анализа форм волевой недостаточности мы, во-первых, должны заметить, что они не так уж часто проявляются в таком сгущенном, ярком виде, как мы их описали. Могут быть различные степени проявления от более или менее незначительных и эпизодических до крайних случаев, вплоть до болезненных. Во-вторых, в жизни мы редко можем наметить резкие границы между различными формами волевой недостаточности, например внушаемостью и импульсивностью. Чаще всего наблюдаются смешанные типы. И, наконец, мы должны определенно указать на зависимость развития форм проявления волевой недостаточности от характера воспитания в жизни людей в определенных социально-психологических условиях.
Так, В. И. Ленин пишет: «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел. На этот счет мы должны смотреть на свое положение без всяких иллюзий»13.
У развивающегося ребенка нередко проявляется в известной степени волевая недостаточность, например импульсивность, упрямство, негативизм и внушаемость. Это вполне естественно. Формирование воли не может быть сугубо прямолинейным, без всяких возможных отклонений. Так, недостаточный контроль сознания, сильная эмоциональная впечатлительность, отсутствие умения сдерживать свои желания и чувства, свойственные детям преддошкольного и дошкольного возрастов, приводят, естественно, к проявлению импульсивности и внушаемости.
Становление личности ребенка в процессе развития характеризуется созреванием сознания и самосознания, что сказывается на возрастании его самостоятельности: стремится все делать сам, быть относительно независимым и т. п. А так как силы его еще невелики, возможности ограничены, сознание не настолько созрело, чтобы учитывать далеко идущие последствия поступков и действий, ребенок ограничивается протестом против мелочной опеки взрослых, выражающимся в виде негативизма — немотивированного сопротивления требованиям окружающих лиц, а также упрямства — стремления настоять на своем даже при сознании неразумности своих действий или выставляемых требований.
Из сказанного, однако, не следует делать вывод, что развитие идет от импульсивности и внушаемости к негативизму и упрямству. Нужно, во-первых, помнить, что развитие воли ребенка может и не включать яркого и стойкого проявления описанных форм волевой недостаточности, если воспитание поставлено правильно, и, во-вторых, наряду с импульсивностью и внушаемостью может наблюдаться проявление негативизма и упрямства. Эти формы могут уживаться по той простой причине, что старое нередко уживается с новым, новое возникает в лоне старого, и только в процессе длительного развития, воспитания и самовоспитания происходят качественные сдвиги в сознании и поведении человека. Поэтому общие закономерности развития необходимо рассматривать на конкретных случаях, учитывая индивидуальные особенности личности, условия ее жизнедеятельности и воспитания.
Таким образом, изучение общих форм проявления волевой недостаточности весьма важно родителям, во-первых, для того, чтобы различать подлинную волю от пародии на нее, то есть уметь распознавать различные формы безволия и благодаря этому предпринимать своевременно необходимые меры для их исправления, и, во-вторых, для того, чтобы предупредить появление форм волевой недостаточности.
ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ВОЛИ В СЕМЬЕ
Воля не дана от природы, она возникает и развивается в процессе жизнедеятельности человека, благодаря воспитанию и обучению.
Путь развития воли у ребенка идет от рефлекторных и инстинктивных движений к сознательным поступкам и действиям, направленным на достижение сознательно поставленной цели.
Новорожденный совершает массу движений импульсивного характера, идущих или от непроизвольной «разрядки» энергии нервной системы или же побуждаемых органическими потребностями. Дальнейший путь развития идет к смутным влечениям, к овладению собственными движениями. От несознательных действий развитие приводит ребенка к эмоционально-осознанным стремлениям. У ребенка возникают желания. Правда, эти желания еще чрезвычайно неустойчивы, быстро меняются, но это уже существенный зачаток воли. Наличие желания мы можем наблюдать у полуторагодовалого ребенка. Уже в этот период наблюдается характерная для воли борьба мотивов. Дети выбирают из нескольких возможностей одну, но характер выбора больше всего зависит от эмоционального состояния ребенка и от эмоциональной привлекательности предмета или действия.
В три года ребенок уже не только выбирает, но и может сдерживать свое желание (ожидание), преодолевать отрицательное отношение к предмету и совершает поступки, исходя из простейших мотивов.
Характерным моментом для развития воли ребенка является подражаемость и легкая внушаемость. Часто действия ребенка, его поступки определены простой подражаемостью взрослым или сверстникам.
В старшем дошкольном возрасте мы можем говорить о воле у ребенка, напоминающей по форме волю взрослого, но отличающейся от последней по качественным признакам: по содержанию, осмысленности, побуждению и твердости в реализации поставленных целей.
Подлинное развитие воли требует определенного уровня сознания, моральных установок, жизненного опыта и в первую очередь интеллектуальных сил.
Становление самостоятельной воли наблюдается в подростковом возрасте, что связано с особенно интенсивным формированием в этот период личности, требующей самоопределения. Подросток желает, чтобы с его мнением считались, чтобы относились к нему как к взрослому, как к равному. При неблагоприятных условиях эти желания проявляются в утрированной форме негативизма, т. е. отрицания советов и рекомендаций родителей, старших, в упрямстве, т. е. в отстаивании неразумных, но высказанных решений или мнений и т. д.
В юношеском возрасте, несмотря на оттенок романтичности и порывистости намерений, все же спадают напряженность и возбужденность, присущие подростку, и наступает период более уравновешенного поведения и реалистического представления о себе и своем будущем. В этот период развивается инициативность и настойчивость воли. Старшеклассники начинают более ответственно относиться к учению и более ровно распределять свои силы на различные виды занятий. Вместе с тем растет и выдержка, самообладание.
Воспитание воли должно начинаться, по сути дела, с первых дней жизни. Выдающийся советский педагог А. С. Макаренко говорил: «Успех воспитания человека определяется в младшем возрасте до пяти лет. Каким будет человек, главным образом зависит от того, каким вы его сделаете к пятому году его жизни. Если вы до пяти лет не воспитаете как нужно, потом придется перевоспитывать»14.
Первая задача, которая встает перед родителями на путях воспитания воли, это развитие психомоторной сферы ребенка. Необходимо, например, подвешивать над кроваткой младенца игрушки, цветные предметы, которые будут привлекать ребенка и тем самым возбуждать его психомоторную деятельность. Несколько позднее класть ребенка спиной вверх на разостланное на полу одеяло и перед ним игрушки, но так, чтобы он не достал их рукой. Ребенок в этом случае начинает совершать первые попытки к передвижению по направлению к игрушке. Так он начнет овладевать движениями ползания как преддверием ходьбы. Подобным образом следует организовать и развитие ходьбы.
Необходимо с раннего детства закалять ребенка. Показателен в этом отношении опыт советской женщины Маховой, которая в своих «Записках матери» пишет: «Я стала закалять сына, как советовал врач. Не кутала его, гуляла с ним во всякую погоду. Ночью укладывала спать при открытой форточке, завесив ее предварительно марлей». «В результате правильного режима (питания, сна) и закаливания, — говорит Махова, — к двум годам Джаник очень вырос, стал толстый, краснощекий»15.
Нужно закалять ребенка не только физически, но и духовно, вырабатывая нечто подобное мужеству и выдержке. Например, создавая все необходимые профилактические условия против падения и ушибов, нужно в случае, если ребенок ушибается, избегать истерических сцен, криков и рыданий, которые не только способствуют развитию плаксивости и притворства, но могут и тяжело травмировать ребенка (испуг и т. п.). Следует относиться к этому спокойно и постараться отвлечь ребенка, показывая ему игрушки или же беседуя с ним. Следует приучить ребенка сдерживать свои желания, чтобы он мог ожидать желаемое. Необходимо приучать ребенка не только дружно играть со сверстниками, но и оставаться одному, занимаясь игрушками. Некоторые родители воспитывают так, что не могут отойти ни на шаг от ребенка. Он мало ходит, все требует, чтобы на руках его несли, плачет, когда пытаются оставить одного. В этих условиях не сформировать ни самостоятельности, ни мужества.
Решающее значение в воспитании воли имеет режим жизни ребенка (сна, питания, занятий и т. д.). Режим организует ребенка, формирует организованность как черту личности.
К. В. Махова пишет, что она решила с первых дней рождения сына приучить его к определенному режиму. Осуществить это было не легко, но, обладая твердостью характера, она успешно решала эту задачу.
Вот как она описывает первую сцену, начало приучения ребенка к режиму.
Она говорит мужу: «Вот буду кормить, как врач советовал, по часам, и ты его через месяц не узнаешь».
«Ребенок кричал все сильнее.
— Только бы не раскиснуть, только бы не раскиснуть, — твердила я шепотом.
Муж рассердился:
— Что ты там шепчешь себе под нос? Возьми его и сейчас же накорми.
— Надо приучать по часам, — тихо возразила я.
— Никогда не думал, что у тебя такое черствое сердце, — не надо было иметь ребенка.
Сын плакал все сильнее. Я была близка к отчаянию. Мне было до слез жаль ребенка, не хотелось и огорчать и сердить мужа, но вместе с тем я понимала, что должна выполнить предписание врача. И я еще раз повторила: «Ведь надо же приучать...»
Кормление по часам удалось. Ребенок стал более спокойным, и его физическое развитие быстро прогрессировало. Соседи, которые ранее не одобряли ее действий и называли ее «мачехой», вскоре убедились в эффективности ее мероприятий и стали спрашивать советы.
К. В. Махова начинает приучать ребенка к самостоятельности уже с раннего возраста. «Я редко брала сына на руки. С самого начала старалась приучать его играть одного, потому что была очень занята делами по дому и приготовлением учебных заданий. Когда Джаник начал сидеть, я стелила на пол ковер, сажала его и давала ему игрушки»16.
Кроме того, она рано начала прививать у сына аккуратность, воспитывать собранность и дисциплинированность — важные волевые качества. «Мне хотелось, — пишет Махова, — как можно раньше приучить сына к аккуратности. После игры я собирала вместе с Джаником его игрушки, и мы клали их на место. Постепенно он стал делать это и один. Эта привычка впоследствии очень пригодилась Джанику, и сейчас, когда вырос, каждая вещь у него всегда на своем месте»17.
Всем хорошо известно, что ребенок — существо чрезвычайно активное и импульсивное, и задача воспитателей (родителей) состоит в том, чтобы найти допустимую меру его активности и сдержанности.
Прекрасно об этом говорил А. С. Макаренко: «Главный принцип, на котором я настаиваю, — найти середину — меру воспитания активности и тормозов. Если вы эту технику хорошо усвоите, — вы всегда хорошо воспитаете вашего ребенка. С первого года нужно так воспитать, чтобы он мог быть активным, стремиться к чему-то, чего-то требовать, добиваться, и в то же время так нужно воспитывать, чтобы у него постепенно образовались тормозы для таких его желаний, которые уже являются вредными или уводящими его дальше, чем это можно в его возрасте. Найти это чувство меры между активностью и тормозами, значит, решить вопрос о воспитании»18.
Тормозы, пользуясь выражением А. С. Макаренко, образуются, с одной стороны, в результате привыкания ребенка к определенному режиму жизни и, с другой стороны, в результате систематического воспитания ребенка по пути наглядно-действенного уяснения, что можно делать и чего нельзя. Родители в этом отношении всегда должны проявлять твёрдость, настойчивость, избегая ложно понимаемой жалости для проявления мещанского сентиментализма, который вредит делу воспитания. В случае проявления ребенком упрямства родители обязаны показать ему, что упрямство ни к чему хорошему не приводит и что с ним никто не считается. Если ребенок не хочет есть или идти спать, не нужно его уговаривать и, более того, лучше всего перестать обращать на него внимание. Вот примеры этому.
Трехлетняя Вера прыгает в кроватке и никак не хочет ложиться спать. Чем больше мать ее уговаривала, тем больше та капризничала. Отец отозвал мать и прошептал: «Оставим Веру, уйдем отсюда»,- — так и сделали. Вернувшись через 15 минут, увидели Веру спящей. Другой случай. Веру зовут гулять, она отказывается. Тогда отец сказал: «Ну, хорошо, оставайся дома» и, повернувшись, пошел к дверям. Вера бросилась к отцу с криком: «Я пойду». Часто бывает, что капризы ребенка есть следствие уговаривания, упрашивания и излишнего внимания, которое в этих случаях уделяется ребенку и которым он постепенно начинает пользоваться, выдвигая необоснованные требования. Что касается воспитания активности, то здесь в первую очередь нужно обращать внимание на направленность активности ребенка.
Опираясь на легкую подражаемость ребенка и интерес к копированию деятельности взрослых, необходимо направлять активность на всякого рода работу, труд, который вначале должен носить игровой характер. А в трудовой деятельности; как известно, формируется и укрепляется воля. Поэтому трудовое воспитание важно начинать с раннего возраста.
Кто ложно понимает счастливое детство, кто исключает возможность трудовых усилий детей, у тех дети, а потом взрослые люди становятся изнеженными белоручками, не способными к волевому усилию.
Приведем примеры, иллюстрирующие это положение.
«В семье П. отец — квалифицированный рабочий, цеховой мастер, имеющий высокий заработок. Мать — служащая, также хорошо зарабатывает. А сын у них, Володя, которому уже 13 лет, вырос белоручкой, капризным эгоистом, потому что родители, «души не чая» в своем единственном сынке, с детства его безмерно баловали, ни в чем ему не отказывали. Отец и мать неоднократно между собою говорили: «Сейчас нам все дано, и наш Володя может иметь счастливое детство!» Чтобы доставить удовольствие и радость любимому сыну, ему всегда покупали дорогие игрушки. Купили ему и «настоящий» велосипед, хотя он еще не, дорос, ногами до педалей не достает. Его прихоти полностью удовлетворяются. Подарили и дорогой фотоаппарат. Он побаловался им первые дни и забросил, фотографировать так и не научился. Володя никогда своей постели не уберет, своих ботинок не почистит, стакана чаю себе не нальет, за собой со стола не уберет...»19.
Этот пример ясно говорит о том, что неправильно организованное воспитание, выражающееся в заласкивании ребенка, удовлетворении всякого рода его капризов, в неприучении его к трудовым усилиям, приводит к образованию уродливой, безвольной личности. Так «организованное счастливое детство» становится в конечном итоге «горестным бытием» взрослого, который не находит себе места в жизни и становится помехой на путях созидательного коммунистического строительства.
«Надо до конца понять, — сказала Н. К. Крупская в одном из своих выступлений, — что такое счастливое детство? Ведь это вовсе не значит, что ребенка, как какого-нибудь буржуазного сынка, надо обслуживать, обслуживать и обслуживать...»
Следовательно, ребенок с самого раннего возраста должен быть включен в трудовую деятельность. Пусть эта деятельность вначале носит характер игры, а потом все усложняется и требует возрастающих волевых усилий.
В этом отношении примером может служить трудовое воспитание в семье К. В. Маховой. Она пишет: «Готовя обед, я никогда не гнала Джаника от себя. Ему очень нравилось мыть в тазике коренья, особенно картошку: она в воде скользкая. Я разрешала ему брать куски нарезанной моркови, картошки и разделывать со мной пирожки. У Джаника была маленькая метелочка, и он подметал пол около своих игрушек. Свои игрушечные тарелочки он мыл и вытирал маленьким полотенцем. Конечно, все это у него получалось плохо, особенно вначале, но это уже были игры, и они рано приучили его к труду»20.
Игра в труд с детства развивает любовь к труду, но нельзя труд превращать в сплошную забаву, «необходимо признать, что многие работы, — писал А. С. Макаренко, — требуют большого терпения, привычки». Эти качества нужно прививать с детства.
Поучительным примером воспитания воли через напряженный, но посильный труд может служить воспитание В. И. Ленина в семье Ульяновых.
Воспитание в семье Ульяновых с самых ранних лет заложило в детях крепкие основы для формирования волевой, организованной, дисциплинированной личности. Дети приучались к труду, работая вместе с родителями на огороде.
Особенно важно, чтобы дети привыкали выполнять определенные трудовые обязанности. Так, А. С. Макаренко рекомендует перечень трудовых обязанностей ребенка в семье. Вот некоторые из них:
1) поливать цветы в комнате или во всей квартире;
2) вытирать пыль на подоконниках;
3) накрывать на стол перед обедом;
4) следить за солонками, горчичницами;
5) получать газеты и складывать их в определенном месте, отделяя новые от прочитанных;
6) кормить котенка или щенка;
7) производить полную уборку в отдельной комнате или отдельной части комнаты;
8) чистить платье свое или младшего брата или одного из родителей;
9) если семья имеет огород или цветник, — отвечать за определенный его участок как во время посева, так и ухода за ним и сбора плодов.
Каждая семья индивидуально может определить характер таких работ с учетом семейных нужд, а также сообразуясь с возрастом и особенностями личности ребенка.
Оказывается, что ленивыми дети не рождаются, а становятся вследствие чрезмерной опеки и ничегонеделания.
Само собою понятно, что и перегружать работой детей нельзя, особенно когда они учатся, так как перегрузка вызывает отвращение к труду. Трудовые усилия не должны превосходить возрастные возможности ребенка, но бояться того, что ребенок встретит трудности, нельзя. Подлинная воля закаляется в трудностях, в преодолении препятствий. Нужно учить детей преодолевать трудности и вместе с тем не лишать их самостоятельности и инициативы в решении трудных задач. Мы знаем одного сердобольного папу, который постоянно решал задачи за сына, как только слышал мольбу: «Задача трудная, и я никак ее не могу решить». Так все и решал, а в результате сын математикой не овладел, решать задач не научился и пасовал перед малейшими трудностями. Следовательно, решение задач — не только мыслительный, но и волевой процесс, а потому решение различных практических и теоретических задач развивает не только мышление, но и волю.
В формировании мыслительной деятельности, как и воли, огромное значение имеет воспитание уверенности в собственных силах и самостоятельности.
Ребенок, не уверенный в себе, как правило, бывает робким и застенчивым, он не может постоять за себя и за товарища. Ребенок несамостоятельный оказывается слишком внушаемым.
Необходимо воспитывать у каждого ребенка антисуггестивные качества, т. е. качества невнушаемости.
Невнушаемость определяется следующими свойствами личности: 1) устойчивостью морально-политических убеждений; 2) смелостью в отстаивании собственных взглядов; 3) самостоятельностью ума, когда человек все взвешивает и оценивает с точки зрения целесообразности и моральной оправданности. Антисуггестивные барьеры начинают формироваться в детстве, когда ребенку прививают представление, что хорошо и что плохо, учат быть честным, правдивым, не поддаваться плохим влияниям, когда дают возможность проявлять самостоятельность в выполнении различных заданий, поддерживают проявление инициативы и тем самым укрепляют волю во всех отношениях.
Особенно сложно и трудно воспитывать волю у подростка. Известно, что подростки не любят прямых указаний и требований. Они чрезвычайно ‘обидчивы, когда не признают их взрослость, их право на самостоятельный выбор решений и т. д. Это надо сознавать и соответственно изменить тактику воспитания. Наиболее эффективным в этом возрасте оказывается не прямое, а косвенное воздействие, когда родители, например, не требуют, чтобы их сын занимался конструированием приемников, потому что это интересное и полезное дело, а рассказывают, как один мальчик сделал такой удивительный транзистор, что даже все соседи ходили посмотреть и послушать мелодии, и одновременно так, без навязывания, подсунуть популярную книжку о конструировании приемников, что, смотришь, подросток сперва полистает ее, а потом станет с увлечением читать и займется конструированием.
Говорить надо с подростком уважительно, но ни в коем случае не обнаруживать слабость, не становиться в зависимое от его капризов положение. Каждый в семье имеет определенные обязанности и должен их исполнять. Если подросток обязан ходить за хлебом, убирать комнату, а где нет парового отопления — наколоть дрова и принести их, он должен это делать неукоснительно и ежедневно.
Воля формируется не только в игре и труде, но и в учении. Как ни странно, но чаще всего срывы в учебе и нежелание учиться наблюдаются у подростка.
Казалось бы, подросток вырос интеллектуально и в волевом отношении, у него сформировались навыки учебной работы и вдруг — срывы. Дело в том, что в начальных классах материал учения доступен каждому, если даже и не выработаны хорошие навыки учения. С IV класса программа становится разнообразной. Ее усвоение требует уже не только общих, но и специальных способностей (математических, литературных, изобразительных и т. д.). Несколько изменяется и характер обучения: в средних классах очень много такого материала, который требует понятийного, абстрактного мышления. Слабо подготовленные учащиеся начинают испытывать трудности. Если своевременно не помочь им, то у них возникает негативное отношение к учению. К тому же вследствие физиологических изменений, которые наступают у подростка, наблюдается повышенная утомляемость, раздражительность и нервно-психическая ранимость. Возникают и некоторые отвлекающие от учения факторы.
Вот почему контроль за учебой подростка и тактичная помощь ему в процессе учения очень нужны со стороны родителей. Прежде всего следует контролировать не запоминание, а понимание ребенком материала, в какой мере он может применить знание общих закономерностей к частному случаю, например к решению конкретной математической задачи или жизненной проблемы. Необходимо приучить его подходить к воспринимаемым знаниям сознательно, с пониманием сущности усваиваемого. Это важно не только для формирования ума, но и для самостоятельности воли.
И, конечно, если режим дня у подростка расшатался в связи с новыми требованиями и контактами со сверстниками, необходимо его восстановить с известными поправками на новые условия жизни, учения и труда. Режим дисциплинирует, организует подростка, да и каждого человека, пусть это даже будет взрослый, пожилой человек.
Итак, формирование воли — сложный и длительный процесс, требующий учета многих обстоятельств, возраста, индивидуальных особенностей ребенка и подростка, применения разнообразных приемов и средств воспитания.
Родители должны повседневно заботиться о нравственном воспитании своих детей как условии формирования нравственно воспитанной воли.
Нравственное воспитание, прежде всего, упирается в создание нравственной атмосферы окружения, в которой живет ребенок.
«Если человек черпает все свои знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека... Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными»21.
Дети смотрят прежде всего на родителей, которые для них являются образцом. Поэтому в семейных отношениях необходимо быть честным, правдивым, искренним, принципиальным и твердым, мужественным. Эти качества коммунистической морали советских людей будут восприниматься детьми и станут нормами их поведения.
Следует приучать ребенка делиться с другими тем, что он имеет. Какими бы сладостями он ни обладал в данный момент, он должен легко отдать их, если у него просят, а затем и сам должен без напоминания угощать других. Это очень легко привить ребенку с раннего детства личным примером родителей и практикой самого ребенка.
Необходимо развивать коллективизм у детей, организуя совместные игры сверстников, прогулки и т. п. При этом воспитывать их так, чтобы в игре они могли сотрудничать, приобретали бы навыки исполнения поручений и руководства. Для этого родителям иногда следует вмешиваться в игры и стараться менять игровые роли детей, с тем чтобы каждый мог формироваться как активная личность.
А. С. Макаренко рекомендовал формировать у каждого ребенка, подростка не только умение исполнять, но и поручать, руководить. Морально воспитанная воля есть воля коллективиста, умеющего сотрудничать с другими, приходить на помощь товарищу, согласовывать свое поведение и деятельность с интересами всего коллектива.
Воля коллективиста формируется только в коллективе в процессе общественной работы, работы для всех.
В. И. Ленин писал: «Быть членами Союза молодежи — значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом и состоит коммунистическое воспитание»22. Общественная работа в коллективе или от имени коллектива вне школы воспитывает чувство долга перед группой, школой, она способствует формированию инициативности и организаторских способностей.
Некоторые родители, боясь, что общественная работа помешает учебе, запрещают детям вести ее. Такие родители ущемляют интересы детей и подростков, лишают их возможности формирования общественной активности, которая так высоко ценится социалистическим обществом и которая так необходима в жизни любого советского человека-коллективиста.
РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ ВОЛИ
Воля формируется не только внешними обстоятельствами, воспитанием, но и самим человеком.
В. И. Ленин писал, что идея детерминированности (обусловленности) поведения не снимает ответственности человека за свои поступки и действия23.
И действительно, человек как существо сознательное может выбирать наиболее значимый для себя и других путь, с учетом своих способностей. Он может развивать свои силы, совершенствовать характер, закалять свою волю. Примером этого служат великие революционеры прошлого и настоящего периода развития общества.
В. И. Ленин, по свидетельству своей сестры А. И. Ульяновой, мог преодолеть вспыльчивость и стать очень уравновешенным и сдержанным, весьма деликатным человеком. По свидетельству А. Е. Магорам, В. И. Ленин рекомендовал систематически работать над собой. Для успеха в жизни и труде нужна воля. Отсюда следует, говорил В. И. Ленин, «сознательно заниматься культурой своей воли, ежедневными и постепенными усилиями, точно так же как занимаются гимнастикой на трапециях, переходя от простых к сложным упражнениям»24. Благодаря самовоспитанию и самообразованию, он достиг вершин знания и культуры, стал великим организатором революции и великим теоретиком, развившим марксизм в новых условиях. Яркими примерами самовоспитания личности, воли могут служить также Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Сергей Киров.
Великий Л. Н. Толстой, гордость не только русской, но и мировой литературы, многим обязан самовоспитанию. Он самостоятельно изучил более десяти иностранных языков, основы ряда наук и искусства, выработал огромную работоспособность и в целом волю, проявлял великое мужество в обличении самодержавия. Л. Н. Толстой в своих дневниках рассказал, как составлял планы самовоспитания, как контролировал ход работы над собой и каких результатов достиг.
Советские психологи и педагоги (А. Арет, А. Ковалев, А. Кочетов, Л. Рувинский, В. Селиванов и многие другие) показали эффективность самовоспитания в формировании личности и ее воли, определили пути и методы педагогического руководства самовоспитанием подростков и юношей.
Самовоспитание — естественное явление развивающейся личности. Нами установлено, что потребность в самовоспитании особенно отчетливо обнаруживается в переходный период развития личности, а именно в подростковом возрасте, возрасте перехода к взрослости. Подросток не только стремится быть самостоятельным, но и реально отстаивает право самому решать жизненные вопросы. Но так как до полной взрослости далеко, многого еще не достает не только в объективных, но и в субъективных условиях, чтобы вести себя как взрослый, то вполне естественно, что противоречия, возникающие между желаемым и реальным, разрешаются в работе над собой.
Как показывают исследования, в первую очередь подростки стремятся воспитать у себя сильную волю, смелость, решительность, самостоятельность. Они нередко идут на рискованные действия, чтобы проверить себя, закалить свою волю (прыгают с обрыва в реку или со скалы в море, залезают на крыши высоких зданий и деревья, испытывают себя на способность выносить боль и т. д. и т. п.). Однако стихийно ведущаяся работа по воспитанию своей воли не всегда является эффективной, особенно у тех школьников, которые отличаются слабоволием или ленью, неорганизованностью и другими недостатками. Как ни парадоксально звучит, но это так: безвольный больше других нуждается в самовоспитании воли и вместе с тем в работе над собой он достигает наименьших результатов. Следовательно, для развития и закалки воли нужен определенный уровень развития самой воли.
Однако и слабовольный может развить у себя волю, если он пользуется помощью и поддержкой взрослых, товарищей, если он овладеет оптимальными (наиболее благоприятными) методами самовоспитания.
Следовательно, самовоспитание воли детей и подростков нуждается в руководстве. Это руководство состоит в том, чтобы помочь школьнику определить идеал или образец, который служил бы программой самовоспитания. Таким образцом может быть литературный герой, сверстник, отец или мать, знакомый и т. д. Надо, чтобы образец был по существу образцовым. Бывает, что ребята подражают «смелости» хулигана, поведению стиляги, превращая себя в косматых обезьян. Родители могут дать совет, что почитать, особенно из серии «Жизнь замечательных людей», на кого обратить внимание из товарищей, что для жизни наиболее значимо и в чем действительно проявляется героика.
Скажите подростку: разве это героика ходить по улице и плевать по сторонам, задевать прохожих; разве в том красота человека, чтобы отпускать длинные волосы и при этом их не мыть и не расчесывать; разве в том доблесть, чтобы развязно вести себя на уроке и пренебрегать заданиями? А вот настоящий пример доблести: Петя кончает музыкальную школу и возглавляет самодеятельный квартет в своей школе. Он вместе с тем самостоятельно овладел английским языком до такой степени, что может свободно говорить (покупал пластинки с речью на английском языке, многократно прослушивал их и заучивал, регулярно занимался в кружке). Он одновременно конструирует транзисторные приемники, дома все делает по электрооборудованию, создал интересные электротехнические приспособления. Петя — очень живой и приятный собеседник. В общении не «ломается» и не паясничает, не разыгрывает из себя таинственного и непонятного индивида; он прост и максимально откровенен. Ему не чужды ни шутка, ни детскость — стремление поиграть с детьми, позабавиться безделушкой и т. п. Петя не вундеркинд. Все дело в том, что он нашел для себя интересные дела, увлекся ими и, естественно, проявляет максимальную работоспособность, не чувствуя при этом усталости. Если человек чем-либо увлекается, то для него труд не тягость, а удовольствие и он не ощущает тягот в своих занятиях. При увлечении, интересе способности ребенка, школьника проявляются полнее и развиваются быстрее. Наоборот, если нет интереса, то пустяковое усилие утомляет, способности «засыпают», человек стремится избежать занятий, к которым у него нет интереса. Само собою понятно, что учение, работу нельзя целиком свести к интересу, многое нужно делать в силу сознания долга, обязанности, в этом и проявляется воля. Но если сознание долга умножить на интерес, то рождается сила, способная преодолеть все и достигнуть многого в познании и в творчестве.
Чтобы возник интерес к занятиям, необходимо обеспечить радость учения, которая достигается путем введения творческих моментов. Ребята должны делать «открытия», они должны учиться применять знания к решению жизненных вопросов. Родители могут многое сделать в этом отношении, побуждая школьников к починке электронагревательных приборов, приемников, к техническому усовершенствованию быта (автоматическое зажигание лампочки при входе в туалет и выключение при выходе, автоматическое закрывание и открывание форточки и т. п.).
Увлечению способствуют и литературные дискуссии, побуждающие школьника читать внимательнее и творчески, самостоятельно мыслить и т. п. Вместе с тем следует постоянно напоминать о будущем подростка и юноши. Вести работу по профессиональной ориентации.
Наряду с формированием идеала важно подвести ребенка, подростка, юношу к сознанию собственных недостатков, которые мешают им жить и развиваться. Если школьник не видит своих недостатков, доволен собой, то, естественно, он не будет работать над собой. Однако нужно помнить о том, что постоянное фиксирование внимания ребенка на недостатках может привести к тяжелым отрицательным последствиям. Например, у школьника может выработаться чувство собственной неполноценности, при котором никакая продуктивная работа над собой немыслима. Вот почему Гете предупреждал, что если вы имеете дело с людьми, а тем более с детьми, и часто подчеркиваете их недостатки, то вы никогда их не сделаете лучшими людьми.
А ведь встречаются еще родители, которые видят в своих детях только недостатки и постоянно говорят им об этом. Такое отношение и обращение никогда не исправляло и не воспитывало детей. Отмечая недостатки, необходимо подчеркнуть, что ребенок обладает достаточными силами, чтобы эти недостатки преодолеть.
Например, Ваня (Лена) обладают всеми необходимыми способностями, чтобы хорошо учиться, но они ленивы, не прилагают достаточно усилий для выполнения заданий, невнимательно слушают объяснения учителя, а потому плохо учатся. Сядьте с Ваней (Леной) рядом и вместе решайте задачу. Умело подскажите и покажите им, что они все могут. Для ребенка одно ваше присутствие много значит, а умелая подсказка наводит мысль на правильное решение. Чтобы восстановить у ребенка веру в свои силы, следует взять опытного репетитора, который мог бы не только научить, но и убедить, что школьник сам все может делать и с большим успехом.
Сережа что-то пропустил на уроках тригонометрии и никак не может решить примеры. Он пришел в отчаяние, это чувство испытывали и его родители. Раньше Сережа имел четверки по математике, а теперь пошли двойки и тройки. Мы посоветовали родителям взять опытного репетитора из математической школы. Тот сразу обнаружил причину: Сережа не знает на память основных формул, пытается решать, заглядывая в справочник. Положение было быстро исправлено. При этом репетитор, опытный учитель, нашел, что Сережа не только может успешно учиться по математике, но что он обладает настоящими математическими способностями, о чем и сказал родителям, а те своему сыну. И вот чуть ли не двоечник по математике становится одним из лучших учеников. При этом Сережа с увлечением, очень старательно теперь делает все задания и слушает уроки. Хочет поступать в технический вуз.
Итак, на недостатки следует обращать внимание, но при условии, если подчеркиваются возможности их устранения. Необходимо побуждать школьников к выработке и строгому соблюдению режима дня. Когда режим установлен, то следует ненавязчиво напоминать о нем школьнику, который склонен забывать о нем или делать «исключения» из него. Следует оказать помощь в выработке программы самовоспитания воли и методов ее закалки. При этом необходимо подчеркнуть, что воля формируется и закаляется в делах и поступках, а не в благих намерениях и разговорах.
Не нужно искать каких-то особых дел. Повседневные дела иногда требуют куда большей воли, чем одноразовый геройский поступок. И действительно, чтобы систематически и добросовестно выполнять учебные домашние задания, требуется воля. Она необходима и для систематических занятий физической зарядкой, для выполнения поручений родителей по дому. При этом следует подчеркнуть, что, чем менее интересно дело, тем большая нужна воля, чтобы его осуществить. Следует рассказать детям о том, что воля крепнет и закаляется при преодолении трудностей и препятствий. Школьник должен бороться со своей ленью и уметь приказывать себе делать то, что необходимо. Сила воли проявляется в самообладании. Школьник должен владеть собой, держать себя в руках даже при очень сильном душевном волнении, а для этого нужен самоконтроль и самоприказы и т. д.
Для квалифицированного руководства самовоспитанием воли необходимо познакомиться с имеющимися по этому вопросу руководствами25. Родители сами должны подавать пример систематической работы над собой в целях повышения уровня образованности и воспитанности. Не секрет, что школьники, особенно подростки, не только думают, но нередко в состоянии возбуждения открыто говорят, отвечая на упреки родителей так: «А сами вы много работаете над собой?» Чтобы требовать от других, в том числе от своих детей, необходимо прежде всего требовать От себя, служить примером для окружающих. Лишь при этих условиях родители могут иметь не только юридическое, но и моральное право требовать от детей. К. Маркс писал, что воспитатель сам должен быть воспитан.
Итак, воспитывая детей, воспитывайте и себя. В этом залог успеха, слаженной жизни и развития семьи.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 306.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 290.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 25, стр. 305—306.
4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 171.
5 Там же, стр. 195.
6 И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947, стр. 173—174.
7 И. П. Павлов. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1949, стр. 483.
8 И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт. М., 1951, стр. 379.
9 И. П. Павлов по средам проводил собрания, на которых сотрудники лабораторий подводили итоги работ и обменивались научной информацией.
10 П. К. Анохин. Кибернетика и интегративная деятельность мозга. Материалы XVII Международного психологического конгресса (симпозиум). М., 1966, стр. 3.
11 Психология. Под ред. К. Н. Корнилова и др. М., 1948, стр. 331.
12 Яркие примеры упрямства у детей можно почерпнуть в книге А. П. Ларина «Об упрямстве детей». М., 1958.
13 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 13—14.
14 А. С. Макаренко. Соч. в семи томах, т. 4. М., 1957, стр. 445.
15 К. В. Махова. Записки матери. М., 1948, стр. 4—5.
16 К. В. Махова. Записки матери. М., 1948, стр. 4.
17 Там же.
18 А. С. Макаренко. Соч. в семи томах, т. 4. М., 1957, стр. 445.
19 Воспитание детей в семье. Сб. материалов Научно-исследовательского института школ. Под ред. М. В. Сарычевой. М., 1941, стр. 112—113.
20 К. В. Махова. Записки матери. М., 1948, стр. 5.
21 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 2, стр. 145—146.
22 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 315—316.
23 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 159.
24 А. Е. Магорам. Ленин о воспитании воли. «Физкультура и спорт», 1960, № 4, стр. 11.
25 См. работы: А. Г. Ковалев. Самовоспитание учащихся. М., 1968; А. Г. Кочетов. Самовоспитание подростка. Свердловск, 1967; В. И. Селиванов. Воспитание воли школьника. М., 1964.