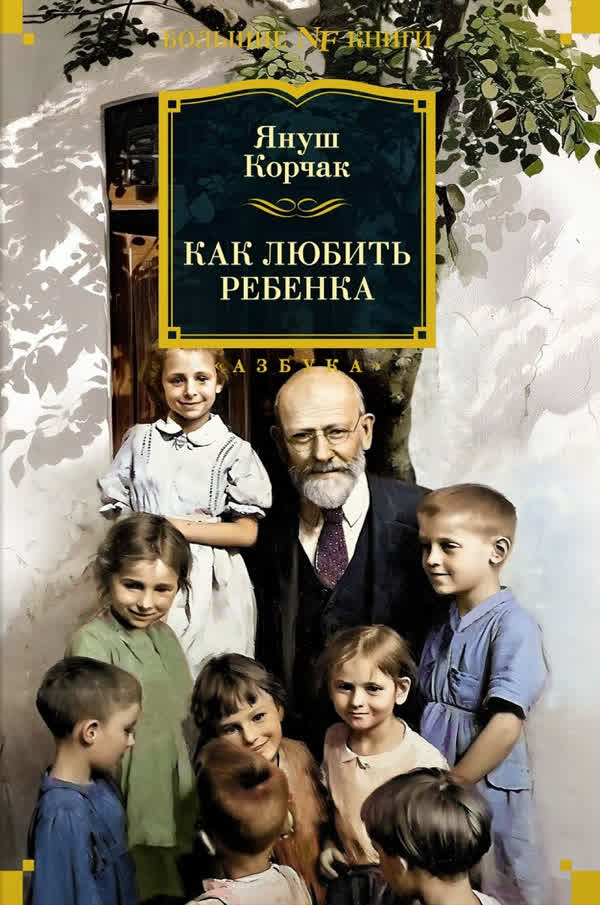
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ
1. Как, когда, сколько, почему?
Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении.
И отвечаю:
— Не знаю.
Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать, книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай: если и есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле автора.
Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка, подчеркиваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны».
В «не знаю» для науки — первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушенного в научном мышлении, — мучительная пустота.
Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» современной науки о ребенке.
Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения.
Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить их решение.
Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли — это поручить другой женщине родить твое дитя. Есть мысли, которые надо самому рожать в муках, и они-то самые ценные. Это они решают, дашь ли ты, мать, грудь или вымя, воспитаешь как человек или как самка, станешь руководить, или повлечешь на ремне принуждения, или, пока ребенок мал, будешь играть им, находя в детских ласках дополнение к скупым или немилым ласкам супруга, а потом, чуть подрастет, бросишь без призора или захочешь переламывать.
2. Ты говоришь: «Мой ребенок».
Когда тебе и говорить это, как не во время беременности?
Биение крохотного, словно персиковая косточка, сердца — эхо твоего пульса. Твое дыхание несет кислород и ему. Одна кровь течет и в нем и в тебе — и ни единая алая капля крови еще не знает, останется она твоей, или его, или прольется и умрет, как дань, взимаемая таинством зачатия и родов. Кусок хлеба, который ты жуешь, — материал ему на созидание ножек, на которые он встанет и побежит, кожицы, которая их покроет, глаз, которыми он будет смотреть, мозга, в котором вспыхнет мысль, ручонок, которыми он к тебе потянется, и, улыбаясь, назовет: «мама».
Вместе вам переживать решающий момент; сообща станете испытывать общую боль. Но пробьет час — знак:
— Готов.
И одновременно он, ребенок, скажет: «Хочу жить своей жизнью», а ты, мать, скажешь: «Живи теперь своей жизнью».
Сильными спазмами ты станешь его выталкивать из своего чрева, не считаясь с его болью; мощно и решительно он станет пробиваться, не считаясь с твоей болью.
Зверский акт.
Нет — и ты, и он подвластны сотне тысяч неуловимых, легких и дивно точных импульсов, дабы, забирая свою долю жизни, вы не взяли больше, чем принадлежит вам по праву, всеобщему и извечному.
«Мой ребенок».
Нет, даже в долгие месяцы тягости и часы родов ребенок не твой.
3. Ты говоришь: «Мой ребенок».
Нет, это ребенок общий — матери и отца, дедов и прадедов.
Чье-то отдаленное «я», спавшее в веренице предков, — голос истлевшей, давно забытой гробницы вдруг заговорил в твоем ребенке.
Три сотни лет тому назад, в военное или в мирное время, кто-то овладел кем-то (в калейдоскопе скрещивающихся рас, народов, классов) — с согласия или насильно, в минуту ужаса или любовной истомы, — изменил или соблазнил. Никто не знает кто и где, но Бог записал это в книгу судеб, а антрополог пытается разгадать по форме черепа и цвету волос.
Бывает, впечатлительный ребенок фантазирует, что он в доме родителей — подкидыш. Да: тот, кто породил его, умер столетия назад.
Ребенок — это пергамент, сплошь покрытый иероглифами, лишь часть которых ты сумеешь прочесть, а некоторые сможешь стереть или только перечеркнуть — и вложить свое содержание.
Страшный закон? Нет, прекрасный. В каждом твоем ребенке он видит первое звено бессмертной цепи поколений. Поищи в своем чужом ребенке эту дремлющую свою частицу. Быть может, и разгадаешь, быть может, даже и разовьешь.
Ребенок и беспредельность.
Ребенок и вечность.
Ребенок — пылинка в пространстве.
Ребенок — момент во времени.
4. Ты говоришь: «Он должен... Я хочу, чтобы он...»
И выбираешь для него, каким должен стать, — жизнь, какую желала бы.
Ничего, что кругом скудость и заурядность. Ничего, что кругом серость.
Люди суетятся, хлопочут, стараются — мелкие заботы, тусклые стремления, низменные цели...
Несбывшиеся надежды, мучительные сожаления, вечная тоска. Всюду несправедливость.
Цепенеешь от бездушия, задыхаешься от лицемерия.
Имеющее клыки и когти нападает, тихое уходит в себя.
И не только страдают люди, а и марают душу...
Кем должен быть твой ребенок?
Борцом или только работником? Командующим или рядовым? Или только счастливым?
Где счастье, в чем счастье? Знаешь ли к нему путь? Да и есть ли такие люди, которые знают?
Справишься ли?..
Как предвидеть, как оградить?
Мотылек над пенным потоком жизни... Как придать прочность крыльям, не снижая полета, закалять, не утомляя?
Собственным примером, помогая советами, словом и делом?
А если отвергнет?
Лет через пятнадцать он обращен к будущему, ты — к прошлому. У тебя воспоминания и привычки, у него поиски нового и дерзновенная надежда. Ты сомневаешься, он ждет и верит, ты боишься, а он бесстрашен.
Юность, если она не глумится, не проклинает, не презирает, всегда стремится переделать несовершенное прошлое.
Так и должно быть. И все ж...
Пусть ищет, лишь бы не плутал, пусть взбирается, лишь бы не сорвался, пусть искореняет, лишь бы не разбил в кровь руки, пусть борется, только осторожно-осторожно.
Скажет:
— Я другого мнения. Довольно опеки.
— Значит, не доверяешь?
— Не нужна я тебе?
— Тяготишься моей любовью?
— Неосмотрительное мое дитя, не знаешь ты жизни, бедное, неблагодарное!
5. Неблагодарное.
Благодарна ли земля солнышку, что ей светит? Дерево — зерну, что из него выросло? Поет ли соловушка матери, что выгрела его грудью?
Отдаешь ли ребенку то, что взяла у родителей, или лишь одалживаешь, чтобы получить обратно, тщательно записывая и высчитывая проценты?
Заслуга ли любовь, что ты требуешь плату?
«Мать-ворона мечется как безумная, почти садится на плечи парнишке, цепляется клювом за его палку, и, повиснув над ним, точно молотом бьет головой по стволу, отгрызая небольшие веточки, и каркает хриплым, натужным, сухим голосом отчаяния. А когда мальчик сбросит птенца, она кидается наземь и, волоча крылья, раскрывает клюв, хочет закаркать — голоса нет, — так она машет крыльями и скачет — смешная, ошалевшая — в ноги парнишке. Когда же перебьют всех ее детей, мать-ворона взлетает на дерево, забирается в пустое гнездо и, кружа по нему, все думает» (Жеромский)1.
Материнская любовь — стихия. Люди ее переделали на свой лад. Весь цивилизованный мир, за исключением народных масс, которых не коснулась культура, занимается детоубийством. Супруги, у которых двое детей, хотя могло быть двенадцать, — убийцы десятерых неродившихся, а среди них был один, именно он — «их ребенок». Быть может, среди нерожденных они убили самого ценного.
Так что же делать?
Воспитывать не этих детей, которые не родились, а этих, которые рождаются и будут жить.
6. «Здоров ли?»
Еще так странно, что он уже больше не она сама. Еще недавно в их двойной жизни боязнь за ребенка была частицей боязни за саму себя.
Она так желала, чтобы это уже кончилось, так сильно хотела, чтобы эта минута уже была позади. Думала, будет свободна от забот и тревог.
А сейчас?
Странная вещь: раньше ребенок был ей ближе, более свой, в его безопасности она была больше уверена, лучше его понимала. Думала, что она знает, сумеет... С момента, когда забота о нем перешла в чужие руки, опытные, оплачиваемые и уверенные, мать — одинокая, отодвинутая на задний план — испытывает беспокойство.
Мир его уже у нее отнимает.
И в долгие часы вынужденного бездействия мать спрашивает себя: «Что я ему дала, чем наделила, чем наградила?»
Здоровый? Так почему плачет?
Почему худенький, плохо сосет, не спит, спит так много, отчего у него такая большая головка, ножки скрючены, стиснуты кулачки, красная кожица, белые прыщики на носу, косят глазки, почему он икает, чихнул, давится, охрип?
Так и должно быть? А может, ее обманывают?
И она смотрит на это маленькое, беспомощное существо, не похожее ни на одно из точно таких же маленьких и беспомощных существ, которые она видела на улице или в парке.
Неужели и он через три-четыре месяца?..
А может, они ошибаются?
Может, проглядели?
Мать с недоверием слушает врача, изучая его взглядом: она желает понять по глазам, пожатию плечами, поднятой брови, нахмуренному лбу: говорит ли он правду и достаточно ли сосредоточен.
7. «Красив ли? А мне все равно». Так говорят неискренние матери, желая подчеркнуть свой серьезный взгляд на цели воспитания.
Красота, грация, приятный голос — капитал, переданный тобой ребенку; как ум и как здоровье, он облегчает жизненный путь. Но не следует переоценивать красоту: не подкрепленная другими достоинствами, она может принести вред. (И тем более требует зоркой мысли.)
Красивого ребенка надо воспитывать иначе, чем некрасивого. А раз воспитания без участия в нем самого ребенка не существует, не надо стыдливо утаивать от детей значение красоты, ибо это-то и портит.
Это псевдопрезрение к человеческой красоте — пережиток Средневековья. Человеку, чуткому к прелести цветка, бабочки, пейзажа, — как остаться равнодушным к красе человека?
Хочешь скрыть от ребенка, что он красив? Если ему не скажет об этом никто из домашних, скажут чужие люди: на улице, в магазине, в парке, всюду — восклицанием, улыбкой, взглядом, взрослые или ровесники. Скажет злая доля детей некрасивых и безобразных. И ребенок поймет, что красота дает особые права, как понимает, что это его рука и она ему служит.
Как слабый ребенок может развиваться благополучно, а здоровый — попасть в катастрофу, так и красивый — оказаться несчастным, а одетый в броню непривлекательности — невыделяемый, незамечаемый — жить счастливо. Ибо ты должен, обязан помнить, что жизнь, заметив каждое ценное качество, захочет купить его, выманить или украсть. Это равновесие тысячных отклонений рождает неожиданности, изумляющие воспитателя мучительными многократными «почему?».
— А мне все равно, красивый или некрасивый.
Ты начинаешь с ошибки и лицемерия.
8. «Умен ли?»
Вначале мать задается этим вопросом с тревогой, вскоре она будет требовать.
Ешь, хотя и сыт, хотя бы с отвращением; ложись спать, хотя бы со слезами, даже если заснешь лишь через час. Должен, требую, чтобы ты был здоров.
Не играй с песком, не ходи растрепой: требую, чтобы ты был красив.
«Он еще не говорит... Он старше на... несмотря на это, еще... Он плохо учится...»
Вместо того чтобы наблюдать, изучать и знать, берется первый попавшийся «удачный» ребенок и предъявляется требование своему: вот на кого ты должен быть похож.
Нельзя, чтобы ребенок состоятельных родителей стал ремесленником. Пусть уж лучше будет человеком падшим и несчастным. Не любовь к ребенку, а родительский эгоизм, не благо личности, а тщеславие толпы, не поиски пути, а путы шаблона.
Ум бывает активный и пассивный, живой и вялый, настойчивый и безвольный, покладистый и своенравный, творческий и подражательный, показной и глубокий, конкретный и абстрактный, ум математика, естественника, писателя; блестящая и посредственная память; ловкая манипуляция случайными знаниями и честная нерешительность; врожденные деспотизм, вдумчивость, критицизм; преждевременное и запоздалое развитие; односторонность или разносторонность интересов.
Но кому какое до этого дело?
«Пусть хоть четыре класса окончит», — опускают руки родители.
Предчувствуя блистательный ренессанс физического труда, я вижу кандидатов для него во всех классах общества. А до тех пор — борьба родителей и школы с каждым исключительным, нетипичным, слабым или неровным по своим способностям ребенком.
Не «умен ли вообще», а скорее «какого склада у него ум?».
Наивный призыв к семье добровольно принести тяжелую жертву. Пристальное изучение способностей ребенка обуздает эгоистичные амбиции родителей. Разумеется, это песнь отдаленного будущего2.
9. Хороший ребенок.
Надо остерегаться смешивать «хороший» с «удобный».
Мало плачет, ночью нас не будит, доверчив, спокоен — хороший.
А плохой капризен, кричит без явного к тому повода, доставляет матери больше неприятных эмоций, чем приятных.
Ребенок может быть более или менее терпелив от рождения, независимо от самочувствия. С одного довольно единицы нездоровья, чтобы дать реакцию десяти единиц крика, а другой на десяток единиц недомогания реагирует одной единицей плача.
Один вял, движения ленивы, сосание замедленно, крик без острого напряжения, четкой эмоции.
Другой легко возбудим, движения живы, сон чуток, сосание яростно, крик вплоть до синюхи.
Зайдется, задохнется, надо приводить в чувство, порой с трудом возвращается к жизни. Я знаю: это болезнь, мы лечим от нее рыбьим жиром, фосфором и безмолочной диетой. Но болезнь эта позволяла младенцу вырасти человеком могучей воли, стихийного натиска, гениального ума. Наполеон в детстве заходился плачем.
Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, последовательно, шаг за шагом стремится усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его духа, силой его требований.
Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что будет внутренне безволен и жизненно немощен.
10. Крик ребенка — неприятный сюрприз для молодой матери.
Знала, дети плачут, но, думая о своем, проглядела: ждала одних пленительных улыбок.
Станет соблюдать все необходимое, воспитывать будет разумно, современно, под наблюдением опытного врача. Ее ребенок не должен плакать.
Но наступает ночь, когда она, ошеломленная (живы еще отзвуки тяжких часов, длившихся столетия), едва ощутив сладость усталости без забот, лени без самобичевания, отдыха после завершенной работы, отчаянного напряжения, первого в ее изнеженной жизни; едва уступив иллюзии, что все кончилось, ибо оно, дитя — этот другой — уж само дышит; умиленная, способная задавать лишь полные таинственных шепотов вопросы природе, не требуя даже ответа...
...вдруг слышит...
...деспотичный крик ребенка, который чего-то требует, на что-то жалуется, домогается помощи, а она не понимает!
Бодрствуй!
«Но если я не могу, не хочу, не знаю как!»
Этот первый крик при свете ночника — предвестник борьбы сдвоенной жизни: одна, зрелая, которую заставляют уступать, отрекаться и жертвовать, защищается; другая, новая, молодая, завоевывает свои права.
Сегодня ты не винишь его; он не понимает, страдает. Но есть на циферблате времени час, когда скажешь: «И я чувствую, и я страдаю».
И. Бывают новорожденные и младенцы, которые мало плачут, — тем лучше. Но есть и такие, у которых от крика взбухают на лбу вены, выпячивается темечко, багровая краска заливает личико и головку, губы синеют, беззубый ротик дрожит, животик вздувается, судорожно стискиваются кулачки, ножки колотят по воздуху. Вдруг он умолкает без сил, с выражением полной покорности глядит «с упреком» на мать, жмурит глаза, моля о сне, и после нескольких поспешных вдохов и выдохов опять подобный, а может и еще сильнее, приступ крика.
Неужто выдержат это маленькие легкие, крохотное сердце, юный мозг?
На помощь, врача!
Проходит вечность, прежде чем врач появляется и выслушивает со снисходительной улыбкой ее опасения, такой чужой, неприступный, профессионал, для него этот ребенок — один из тысячи. Появляется, чтобы через минуту уйти к другим страданиям, слушать иные жалобы, появляется сейчас, днем, когда на душе повеселело: солнце, на улице люди; появляется, когда ребенок как раз заснул, видно изнуренный часами без сна, и еле заметны следы кошмарной ночи.
Мать слушает, иногда слушает невнимательно. Мечты о враче-друге, советчике, проводнике в тяжелом странствии развеялись безвозвратно.
Она вручает гонорар и опять остается одна в печальном убеждении, что доктор — безучастный чужой человек, который не поймет. Да он и сам колеблется, ничего не сказал определенно.
12. Знай она, как важны эти первые дни и недели, и не столько для здоровья ребенка сейчас, сколько для будущности их обоих!
А уж как легко упустить!
Вместо того чтобы примириться с мыслью, что если врачу ее ребенок интересен лишь тем, что приносит доход или льстит тщеславию, так и для мира он ничто, и дорог лишь ей...
Вместо того чтобы примириться с современным состоянием науки, которая догадывается, старается узнать, изучает и делает шаг вперед — знает, но не уверена, помогает, но не дает гарантий...
Вместо того чтобы мужественно установить: воспитание ребенка — это не милая забава, а дело, требующее капиталовложений — тяжких переживаний, забот бессонных ночей и много, много мыслей...
Вместо того чтобы переплавить все это в огне чувств на честное знание без иллюзий, без детского фырканья и эгоистичной горечи, она способна перевести ребенка вместе с няней в дальнюю комнату, потому что «не может смотреть» на мучения крошки, «не может слышать» его жалобных призывов; способна опять и опять вызывать врачей, не приобретая никакого опыта, — прибитая, отупевшая, одуревшая.
Как наивна радость матери, что она поняла первую неясную речь ребенка, угадала путаные, недоговоренные слова!
Лишь сейчас?.. Лишь это?.. И не больше?..
А язык плача и смеха, язык взгляда и губ сковородочкой, язык движений и сосания?..
Не отрекайся от этих ночей! Они дают то, чего не даст книга и ничей совет. Ценность этих ночей не только в знании, но и в глубоком душевном перевороте, который не позволяет вернуться к бесплодным размышлениям: «Что могло бы быть, что должно бы быть, как было бы хорошо, если бы...», а учит действовать в условиях, которые налицо.
В эти ночи может родиться дивный союзник, ангел-хранитель ребенка — интуиция материнского сердца, ясновидение, которое состоит из пытливой воли, зоркой мысли, неомраченных чувств.
1 Стефан Жеромский (1864—1925) — известный польский писатель и драматург. Цитируется отрывок из рассказа «Забвение». — Примеч.ред.
2 Здесь и далее в разделе «Ребенок в семье» выделен текст, включенный автором во второе издание цикла «Как любить ребенка» спустя пятнадцать лет после написания книги. — Примеч. ред.